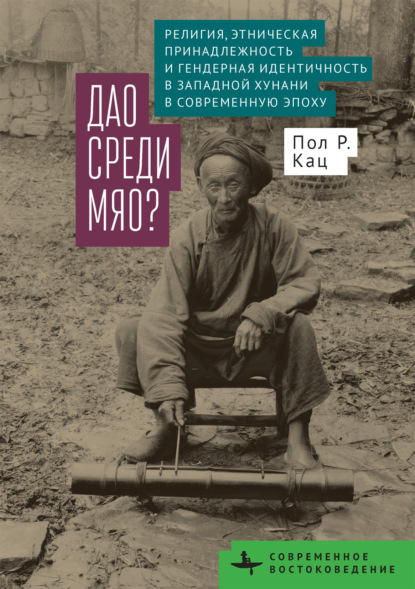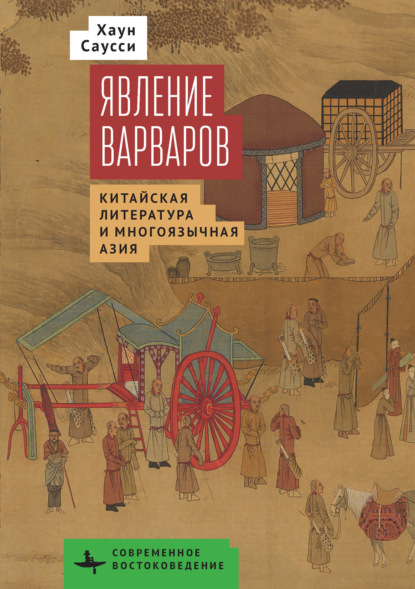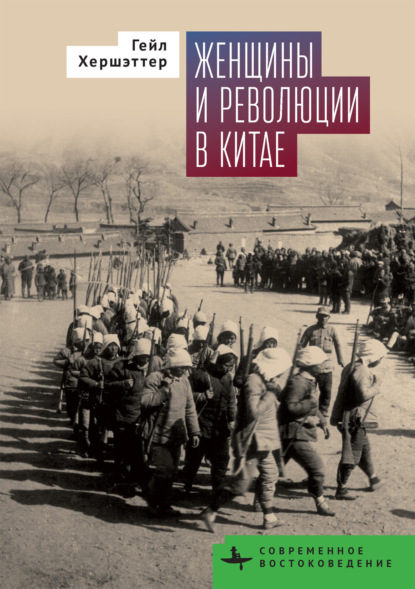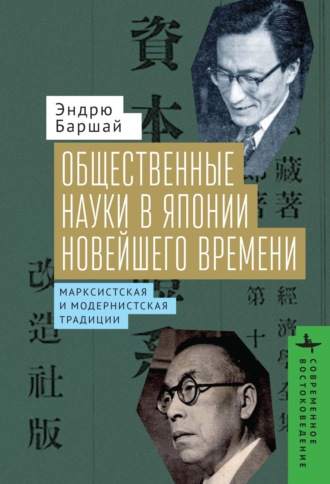
Полная версия
Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции
Пока достаточно отметить, что общественные науки во многих случаях служат выражением неловкого взаимопереплетения двух желаний: обнаружения и изменения. Сейчас мы живем с известным результатом: в эпоху гиперспециализации «нам приходится» знать все больше и больше, а также жить с парадоксальным противоречием, что и интенсификация знания, и последствия его применения сопровождаются ощущением потери личной субъектности3. В мире, где «больше» на самом деле «меньше», банальность и бесполезность представляют собой повсеместные и неизбежные профессиональные риски. Библиотеки, институты и офисы полны нечитанных книг, а те, которые читаются сегодня, окажутся забыты завтра. Действительно, трудно избавиться от сомнений в духе Толстого.
Но сосредоточившись на крахе желания стать «профессионалом», мы рискуем впасть в заблуждение; мы можем забыть не только захватывающий дух восторг, пришедший вместе с осознанием открытий в раннее Новое время (вознагражденное «желание обнаружения»), но также глубокое впечатление, которое этот восторг оставил, не говоря уже о значении подобных открытий. Не забудем и о страшных болезнях модерности – достижение экономии за счет роста производства в условиях официально санкционированной эксплуатации; ненависть и невежество, непотребное и систематическое злоупотребление человеческими навыками и доверием, а также пренебрежение ими. Вопрос, могут ли исправить существующее положение современные люди, используя только инструменты модерности, остается открытым. Возможно, эти инструменты – инструменты производства всех сфер, но особенно институций и технологий коммуникации и представительной демократии – когда-то окажутся улучшенными революцией постмодерна, которая укрепит «местные гуманитарные науки», смягчит удары рынка по обществу и выявит новые формы политического сообщества, выходящие за пределы одновременно объединяющих и атомизирующих сил современного государства. По крайней мере, на это стоит надеяться.
Но что сейчас? Следует вспомнить слова петиции священника и общественного деятеля Г. А. Гапона к царю Николаю II в 1905 году. В мире распространенного и неоправданного триумфа капитализма, среди неподтвердившихся прогнозов о «чистке» коммунистических группировок и лиц, среди глобальной политики, активные конфликты которой не поддаются идеологической категоризации, призыв Гапона заставляет нас вспомнить о том импульсе воскрешения демократических надежд, который стал путеводной звездой после окончания холодной войны. Обратившись к хозяевам с требованиями, отражающими чаяния рабочих, Гапон переходит к вопросу демократически избираемого представительства. «Это, – пишет он, – самая главная наша просьба… это главный и единственный пластырь для наших больных ран»4. Это стремление к демократическому диалогу, обретению гражданских прав, напоминает политические революции Нового времени и гласит, что они еще не окончены – и не могут быть окончены по природе своей. (И действительно, кому еще должны быть адресованы «требования» нынешнего поколения о представительстве?) И мы полагаем, что, пока обретение гражданских прав будет процессом осознанной самотрансформации общества, – цели и задачи общественных наук не исчерпают себя. Более чем за десять лет до «бархатной революции» 1989 года чехословацкий экономист Ота Шик писал в ссылке:
…Повседневный опыт нуждается в поддержке прогрессивной общественной теории. Рабочие, проще говоря, знают, чего они не хотят, но сами по себе не могут ставить новые цели без поддержки теории. В этом ответственность общественных наук – не думать об Утопиях, но анализировать существующие противоречия и конфликты в обществе, обнаруживать их корни в общественной системе и затем придумывать способы исправления – все это обязательства общественных наук перед человеком [Šik 1976: 15].
Конечно, взгляды Шика далеки от нынешних споров о позитивном воздействии общественных наук и от убеждений об опасностях, связанных с их неизбежной вовлеченностью в механизмы власти5. Но не стоит отказываться от попыток заниматься общественными науками «с человеческим лицом», чья цель – моделировать и испытывать «вещество» социальной жизни: не просто количественное «поведение», но даже слова, тексты, над – и подтекстуальные модусы выражения, которые подпитывают социальный дискурс. Ясно, что в осмысленном разговоре о социальном мире мы продолжаем по большей части опираться на систему абстракций эпохи Просвещения. Представьте, как говорить о том, «что делать», без использования таких понятий, как «класс», «рынок», «экономика», «разделение труда», «общество», «сообщество», «нация», «гендер», «индивид», и как далеко можно зайти. Сначала модели мира, из которых состоят общественные науки, могут казаться в лучшем случае очевидными или поверхностными, частично или открыто идеологизированными, а в худшем случае – принудительно гомогенизирующими6. Но проверяемые на прочность (не только ради эмпирической точности и практической эффективности, но и теоретического единообразия) модели, по сути, остаются незаменимыми инструментами для описания любой социальной реальности, как локальной, так и глобальной. Они не предназначены быть воплощением вечной истины, но в то же время меняются в той степени, в какой меняется сама реальность. Они не существуют, чтобы отринуть в долгосрочной перспективе «экстраординарную стабильность общественно-экономических формаций (social formations)… ту вязкость, которая является неотъемлемой чертой социальной истории» [Heilbroner 1985: 24]. Однако следует сказать, что те модели, которые общественные науки представляют миру, предназначены для использования и обречены на переработку, если не на полное разрушение.
Но сила абстракции не только в этом. Организованная интеллектуальная деятельность в любом обществе и в любое время состоит из абстракции: религиозной, метафизической, философской, эстетической, научной. Однако нас здесь интересует «абстракция» в ее модерной форме. В ней есть убежденность в том, что мир – «настоящий вымысел», продукт человеческих попыток – часто безуспешных или имеющих даже катастрофические последствия – сборки, пересборки и разборки социального. В этом мире перемены совершенно нормальны, а понятие революции – и прогресса, рожденного революцией, – предлагает структуру тропов общего дискурса7. Наступление модерного мира ознаменовали самые разные революции – политические, социальные, научные, экономические, интеллектуальные. Эти комплексы событий не касаются одинаково общества в целом или даже каждого отдельного общества, которые они затрагивают. И в то же время они – доминирующий элемент в социальном восприятии мира. Человек осознает неизменное, именно потому что изменение – революция – внедрено в общественное сознание или сделалось совершенно естественным в нем8.
Слово «революционный» сделалось клише даже в рекламе стирального порошка и отбеливателей, где оно используется для увеличения продаж; другие продукты, такие как попкорн и лимонад, чаще взывают к ностальгии. В любом случае «изменение» – главный троп для репрезентации социального мира, в котором существуют эти продукты, предназначенные для продажи и потребления. Общественные науки, о которых здесь идет речь, чаще озабочены познанием этого постреволюционного мира. Причем это познание производится не только ради самого себя («Как можно познать мир?»), но как ответ на вопрос: как долго абстракция может сохранять свою действенность? Или, напротив, насколько действенными могут быть вмешательства в мир, основанные на абстракциях? Главная идея заключается в том, чтобы путем объективации создать мир, который станет картой социальной практики (social praxis). И здесь так и просится метафора постоянной переработки знаний через процессы абстракции и применения.
Но в чем особенности абстракции современного мира (modern)? Как писал Маркс в «Экономических рукописях 1857–1859 годов», в современном мире «над индивидами господствуют» не просто «абстракции», но абстракции, которые возникают из определенного набора общественных взаимоотношений и сил: капиталистического производства [Маркс 1968: 108]. Экономика, которая в общепризнанно марксистской трактовке уравнивается с производством, становится абстракцией современного мира.
Каждое общественное действие определяется как обмен произведенных продуктов – товаров, – а индивид оказывается лишь точкой или узлом обмена. Мы есть то, что мы производим; но если обменный курс продукта низок, то страдает и наша ценность как человека9. Человек, который ничего не производит, ничего не стоит. Процесс «случайного» установления ценности на низком или высоком уровне парадоксален. С одной стороны, он похож на закон и регулярен, подвержен анализу и пониманию, а значит, и совокупности воздействий от «поэтапной прикладной социологии» до радикальной трансформации. С другой стороны, такие абстракции, как рынок, класс и разделение труда, – в сочетании с менее ощутимыми абстракциями расы и гендера – чаще всего выносятся за скобки и за идеологические рамки возможности или желания радикальной, категорической перемены. Однако если отменить подобное вынесение за скобки, то это как минимум поставит под угрозу систему товарного обращения и извлечения прибавочной стоимости; такой мир, в глубоком смысле, перестанет быть целостным. Утописты, например, отказываются жить «в пределах рамок или скобок».
Следовательно, современный мир дает два противоречивых обещания своим обитателям. Во-первых, его фундаментальные, характерные только для него процессы могут быть освоены через абстракцию, но во-вторых, освоенные таким образом процессы получают власть над своими создателями10. Поэтому «контракт», который лежит в основе современности, заключается не просто между людьми, как часть институционального механизма, он заключается между людьми и их идеями. Абстракция – это Левиафан.
Из-за своего замкнутого и самоходного характера капитализм как система занимает особое место в пантеоне абстракций современного мира. Но в реальности он всего лишь часть чего-то большего. Как писал Дерек Сайер, капитализм – это:
площадка, на которой возникли другие современные формы отчуждения и которая предоставляет шаблоны «разрыва», придающие машинам современности ужасающий размах. Но проблема именно в широкой механизации общественной жизни, которая больше не ограничена теми обществами, в которых балом правит капитализм, – если вообще была ограничена ими. Конечно, механизация – это метафора. Мы говорим здесь на самом деле о наших собственных формах социальности и субъектности, что среди первых заметил Карл Маркс [Sayer 1991: 155].
Один из ключей к пониманию модерности лежит не просто в осознании того, что капитализм – это замкнутая система накопления и производства, но и в признании способности абстракции задействовать общественные и политические силы, в частности в ответ на последствия самого капитализма. «Современный мир, – как говорит Сайер, – удивительным образом способствует возникновению политических идеологий, объектом которых становится и анализ, и трансформация обществ как совокупностей, например социализма. Условия для этого – именно абстракция социального» [Ibid.: 106].
Именно эта современная форма абстракции делает возможным постижение тотальной и революционной трансформации общества – в той форме, которая очень отличается от последствий духовного обращения, даже у Толстого. Создатели теорий ощущают, что они обладают знанием, если еще не контролем над огромными, ужасающе мощными общественными силами. И действительно, воплощенная абстракция преображает жизнь народных масс; она либо модернизирует, либо решительно исключает из модернизации некоторые важные сегменты общества. Такие процессы могут привести к большим надеждам, как иллюзорным, так и на чем-то основанным; они могут и воодушевлять, и безжалостно разочаровывать.
Чтобы ознакомиться с возможностью тотальной общественной трансформации, необязательно ее желать11. Можно вспомнить целый спектр высказываний, как за, так и против, необязательно логически последовательных: консерватизм де Токвилля, Вебера и Карла Поппера может поспорить с радикализмом Фурье, Маркса или Н. Г. Чернышевского. Но стоит признать объективную возможность разрушения старого порядка и замены его новым: ни моральное желание избавить людей от страданий, ни метафизически гарантированная телеология, но только систематическое, «научное» исследование общества раскрыло ее.
Принятие тотальной трансформации на основании якобы неопровержимых научных исследований общества – всегда позиция меньшинства, ограниченный случай. Нельзя считать, что за ней стоит безответственность. Напротив, как в случае русской интеллигенции XIX века, за ней часто стояло осознание огромного долга или вины перед массами: как писал П. Л. Лавров в «Исторических письмах» (1869) – «дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе». Каждая из критических мыслей была «куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем» [Лавров 1965: 81, 86]. Здесь нет побега от осознания, и более того, для «уменьшения зла в настоящем и будущем» необходимо насилие и страдания. Ради масс следует иногда жертвовать не только «сознательной интеллигенцией», но и чаще всего самими массами.
Схожее осознание ответственности лежит за нежеланием или отказом признавать, а также попыткой сдержать это стремление. За консервативной позицией и за преувеличенным восприятием угрозы могут стоять не только защита классовых интересов или достигнутого положения, но и вера в разум, порядок, общее благо и нежелание продвигать то, что кажется ненужным страданием. А в реальном мире свою роль в определении стороны могут сыграть повседневный комфорт, леность ума, потеря решимости, внутренний страх, даже откровенное предательство. Выбор не всегда ясен, даже когда открыто аморальные, видимые факты несправедливости, невежества и отчуждения взывают к противодействию. Но к какому?
И тут мы снова возвращаемся к Толстому. Вовлечение обществоведов в процесс современной абстракции преподносит главный вопрос Толстого – «Что делать и как нам жить?» – в новом свете. Толстой изначально задавался им по отношению к нравственной жизни человека и отвечал на него мучительным отречением от мира. Макс Вебер, цитируя Толстого в своей книге «Наука как призвание» (1918), не хотел принимать его путь, но соглашался с тем, что наука как таковая не может безлично и коллективно отвечать на экзистенциальные вопросы, которые ставит перед ней модерность. И, похоже, он отчаянно искал удовлетворяющие или чисто личные ответы, которые в то же время могли ослабить яростную силу того, что он назвал «рационализацией».
Однако не всякий разделяет пессимизм Вебера. Так, Дерек Сайер отказывается прекращать поиски надежды, способы продвижения и в то же время гуманизации текущего и неизбежно абстрактного процесса трансформации мира не из ограниченности или самообмана. Модерность (modernity) определяется рядом общественно-политических формаций, которые выступают с недвусмысленными претензиями на воплощение или как минимум определение основной политики (policies) на основании общественных наук. Не утопический ли характер этих призывов, или же отсутствие демократии в их способах воплощения снова и снова приводили к катастрофе? В любом случае вопрос Толстого еще ждет систематического рассмотрения в области общественных наук, как образцовой формы познания в эпоху модерна. Как возникают и распространяются «абстракции социального», которые так сильно – и даже насильно – «упорядочивают» столько жизней? Как они, в свою очередь, используются, интерпретируются, адаптируются? Как им сопротивляются, как их превосходят и как их отбрасывают? И почему такое количество идей в огромном корпусе текстов общественных наук оказываются в мусорном ведре или в полном интеллектуальном забвении? А при взгляде с другой – институциональной – стороны, как те, кто занимаются таким производством и увеличивают его ценность, справляются с бурным потоком, который делает мир не только объектом, но и продуктом их знаний?
Отвечать на вопрос еще рано: для этого и пишется эта книга. Но мы можем подготовить черновик ответа. И тут нам снова поможет Кознышев. Чтобы завершить работу, ему нужно обзавестись практическими знаниями о процессах, которые он анализирует; ему необходимо заняться «государством», которое понимается здесь и как властная рационализирующая структура, и как гарант порядка. Позиция Кознышева такова, что он и не связан с государством, и не сопротивляется ему. Он находится в экзистенциальной серой зоне между соучастием и сопротивлением и должен трудиться, чтобы выработать свою независимую позицию. В его случае интеллектуальных оснований для такой позиции (либерализм, марксизм или народничество, христианство или иное верование) нет, как и нет таланта, и силы духа; но это не всегда так12. В таких ситуациях тенденция ведет к формированию так называемой «аморальной связи» с государством, которая только усиливается после удобного поворота Кознышева к панславизму после неудачи «Опыта»13. Неясно, за что и как выступает Кознышев, кроме одного: он выступает за метод.
В этой связи Кознышев становится типично проблематичным. Если и Кант, и Робеспьер, оба разрушители мира, действовали как «тип мещанина в высшей степени», то таким же предстает и Кознышев, пусть его деятельность и не имеет последствий. Он и политически неоднозначен, и, надо полагать, эмпирически компетентен. В последнем он является сторонником тенденции уравнивать «научность» общественных наук с узкой практической ориентацией. Кроме силы духа Кознышеву недостает так называемой теоретической «убедительности». Неэффективность его проекта проистекает не из некомпетентности, но из неверия. Эта комбинация политической неоднозначности и интеллектуальной ограниченности приводит к тому, что Кознышеву, несмотря на его желание вразумить общество, нечего сказать ни в теории, ни в истории, ни на практике; возможно, поэтому его работа неудачна14.
Но можно возразить: факты есть факты. Достаточно сказать, что «происхождение факта или идеи не влияет на его точность» [Macdonald 1982: 678]. «Искать истину в фактах», как побуждал товарищей Мао Цзэдун, – достойное и иногда требующее храбрости занятие. Политики, особенно революционные, как и чистые теоретики, имеют все основания бояться фактов. С другой стороны, факты и идеи не возникают из ниоткуда. Они всегда – и здесь категорическое утверждение оправдано – опосредованы языком, который является социокогнитивным и материальным элементом формирования фактов и идей, и они же находят источник в конкретных контекстах. Факты и идеи – продукт определенного дискурса; в этом случае – дискурса социальной абстракции, который, как мы, надеемся, четко продемонстрировал свою тесную связь с глобальным процессом модернизации, о котором речь шла выше.
Чтобы дополнительно подчеркнуть дискурсивный характер общественных наук, необходимо упомянуть еще один элемент. В приведенной выше истории из «Анны Карениной» речь шла о личных соображениях. Но чтобы понять исторический смысл общественных наук как дискурса, мы должны как-то увязать, не уравнивая, «дискурсы морали и необходимости», «этики и причинно-следственной динамики» [Anderson 1984: xx]. Для этого необходимо признать, что все это полностью воплощенные дискурсы, которые практикуются как профессиональные дисциплины в огромном числе институтов, как то: университеты и исследовательские институты; государственные и корпоративные организации; политические партии и другие организации «с повесткой», которые воплощают самые разнообразные движения и побуждения. Более того, институциональные позиции, занимаемые общественными науками, являются результатом коллективной, а не индивидуальной, борьбы за интеллектуальную легитимность, как в условиях конкретной страны, так и на международном уровне.
Прибегая к экстравагантной аналогии: если производственный потенциал разделения труда при раннем капитализме может рассматриваться на примере важной, но все еще автономной и неэффективной булавочной фабрики Адама Смита, так и ранние общественные науки можно рассматривать как труд по сути своей отдельных мыслителей, которые только недавно стали профессионалами. Аналогичным образом, более развитый капитализм – капитализм корпораций, а «развитые» общественные науки – крупный коллективный продукт армии профессионалов, которых «институционализировали» как в рамках их высоко дифференцированных дисциплин, так и в рамках сложных и многочисленных институционных связей15. Если современную «общественную науку» следует изучать в контексте ее частных «опасных связей» с властью, то только потому, что общественные науки успешно легитимировали себя в мире власти. Но эту институционализацию не стоит воспринимать как должное: режимы достижения этой легитимности, как и ее цена, – это предмет повествований и историй, в том числе и этой книги. Легитимные общественные науки находятся в положении, которое позволяет им опосредовать абстракции, не только перед лицом власти, но и всего мира, общества в целом, а кроме того, получать от него обратную связь. Поэтому такая циркуляция знания, институционально и дискурсивно опосредованного, между властью и обществом – яркая характеристика общественных наук. В Японии (и не только в Японии) государство не всегда воспринимало такую циркуляцию как полезную или желательную и предпринимало усилия для ее предотвращения.
В любом случае именно здесь и в этой точке опосредования мы ощущаем силу известной концовки «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса (1936):
Но даже и помимо этого современного умонастроения, идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25 – или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла [Кейнс 1948: 370].
Кейнс, как стоит отметить, откликается на строгие требования Гейне ко всем «гордым людям действия», но также, путем внедрения понятия временной́ (или культурной?) задержки между поколением и принятием экономических идей, – уточняет их. Как и Гейне, Кейнс не обращает внимания на «массы» – на те массы, чьими жизнями, по мнению Толстого, не интересовались мнимые революционеры общественных наук, подобные Кознышеву.
Идеи важны. Но идеи – модели или абстракции, – обсуждаемые в данном исследовании, являются всего лишь подмножеством разных и накладывающихся друг на друга языков, используемых для анализа общества: без языка нет и общества. Наша историческая задача – изучить дискурсивные и институциональные условия, а также паттерны, благодаря которым понятность, достоверность, мотивационная составляющая и идеологическая гибкость таких абстракций делает их важными для общества, то есть проследить, как общественные науки приобретают власть над обществом.
Общественные науки как культурный дискурс
Мы начали эту книгу с рассуждений о том, что общественные науки в самом широком смысле – это науки институциональной модерности, первоначальная задача которых заключалась в «абстракции мира». В этом рассуждении переплетаются два понятия и две темы, которые нуждаются в объяснении, – «дискурс» и «рационализация», поскольку вместе они формируют организационные принципы интерпретации, которая последует далее.
Мы будем относиться к общественным наукам, в соответствии с представлениями Вебера, как к корпусу культурных дискурсов; как к расширяющейся сети актов письма и речи, которые создаются вокруг «объектов» и в то же время создают их. Дискурс всегда посвящен чему-то. В данном случае «что-то» – это «опыт», «действительность», как ее назвал Макс Вебер, институциональной модерности, опосредованной абстрактными конструктами, или моделями; последние вырабатываются методами, характерными для одной и более дисциплин – по большей части социологии, экономики, политологии, антропологии, этнологии, социальной психологии, некоторых школ истории и права и т. п. Но общественные науки, по крайней мере в понимании Вебера, стремятся «понять уникальность реальности, в которой мы живем». Общественные науки – это «познание действительности в ее культурном значении» – то есть в отношении к идеям ценности – «и ее причинно-следственных связей». «Культура», в свою очередь, – «конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения человека, обладает и смыслом, и значением» [Вебер 1990: 379].