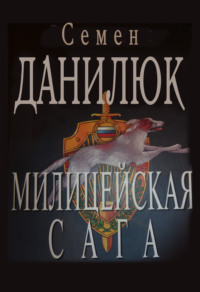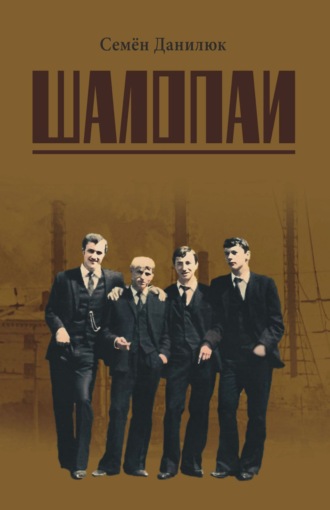
Полная версия
Шалопаи
О том, что Поплагуев и Граневич вызваны к директору школы, Клыш узнал от Наташки Павелецкой. В школе не был он со времен отъезда в Суворовское училище. Тем более в такой – по-летнему безлюдной, гулкой, пахнущей мокрой половой тряпкой.
Первое, что увидел, открыв директорскую приемную, была знакомая попка, нависшая над замочной скважиной внутреннего кабинета.
Школьная секретарша Любочка Павалий первый день как вышла на работу после отпуска. Услышав посторонний шум, Любочка поспешно разогнулась.
– Ах это ты! – успокоилась она. Кивнула на кабинет. – Арнольдыч свирепствует!
В подтверждение её слов из директорского кабинета донесся рык.
Любочка ловко, отработанным движением отжала замок. В образовавшуюся щель стала видна часть помещения. Посреди кабинета, нервно пересмеиваясь, стояли Алька Поплагуев и Осип Граневич. В узеньких лодочках, свежих, пошитых к выпускному вечеру «тройках». Глаза Клыша невольно расширились: Гранечка, ещё накануне волосатый, будто отливающий медью смородиновый куст, стоял, опустив бритую, сияющую постыдной наготой шишковатую голову.
Перед ними, как Тревиль перед нашкодившими мушкетерами, вышагивал горбоносый морщинистый мужчина – директор школы Анатолий Арнольдович Эйзенман.
Гневный взгляд его маленьких, вдавленных глаз прожигал оцепеневшую парочку.
– Подонки! – с аппетитом чеканил он. – Едва за порог школы шагнули и – тут же пьяные в кутузку угодили.
– Да не были мы пьяными, – лениво возразил Алька. – Разве что чуть-чуть нетрезвыми.
Эйзенман вперился взглядом в Оську.
– Объяснись, Граневич, чем тебе советские милиционеры не угодили, что ты на них с кулаками накинулся? А может, – он интимно пригнулся, – страна наша не нравится? Так ты прямо скажи.
– Причем здесь? Страна как страна, – буркнул Гранечка. И – нарвался.
– Как это – «страна как страна»? Ты о ком это? – Эйзенман, вступивший в партию в войну, в окружении, задохнулся возмущением. – О собственной Родине?! Которая тебе, охламону, всё дала. Накормила, образовала бесплатно, в комсомол впустила.
Осип Граневич натужно задышал. Пухленький, некрепкий здоровьем, он быстро «уставал» от накачек. В отличие от Поплагуева, который уже при начале разноса привычно впал в коматозное состояние и отругивался лениво, на автопилоте, Гранечка вникал в то, что говорил директор, и, услышав про комсомол, запунцовел, будто арбуз, в который впрыснули нитратов. У него вообще был удивительный пигмент. Как-то в валютном баре втёршийся в их компанию пьяный чех обнаружил, что у него пропал бумажник. И тут Оська так роскошно покраснел, что все поглядели на него с осуждением. По счастью, бумажник нашёлся у владельца в запасном кармашке.
– Я, между прочим, в ваш комсомол не просился. Сами для галочки записали, – сдерзил Оська.
Круто вертанувшись, Анатолий Арнольдович подскочил к низкорослому Граневичу и неуютно, глаза в глаза, навис над ним.
– В хрюсло хошь? – задушевно поинтересовался он.
Неуверенно хмыкнув, Гранечка отодвинулся. Директор и впрямь был горяч на руку.
На помощь пришел Алька.
– Вы б, Анатолий Арнольдович, выражались как-нибудь попиететней, в пределах нормативной лексики.
– Норматива захотелось?! – Эйзенман отчего-то обрадовался. – Так вы у меня его сейчас полной ложкой схлопочете. Я с вами, обормотами, как филолог с филологами поговорю. А ну, Поплагуев, прихлопни дверь, чтоб эта стервочка не подслушивала.
В наступившей ошалелой тишине отчетливо послышалось дробное цоканье: стервочка – Любочка Павалий – торопилась вернуться на место.
Через десяток минут оба, взмокшие, выдавились в предбанник. Заторможенно кивнули Клышу.
Поплагуев помотал головой.
– М-да! Умеет донести мысль заслуженный учитель республики.
– Кандидата педагогических наук кому попало не дадут, – согласился Граневич.
Данька огладил шишковатую, бугристую Оськину голову:
– Кто надоумил?
– Светка, кто ж ещё! – фыркнула сообразительная Любочка.
Гранечка, стыдясь, кивнул.
– Пообещала, если обреюсь, – даст.
Гранечка с детства был беззаветно влюблен в старшую из сестер Литвиновых – Светку. В присутствии бойкой, веснушчатой одноклассницы, с рыжей копёнкой на голове, у Оськи пересыхало во рту. Приливала кровь.
Увы, восемнадцатилетняя Светка, хоть и слыла оторвой, квелым соседом по подъезду, рыжим подстать себе, не интересовалась. Правда, от приглашений на посиделки за чужой счёт не отказывалась. Но и завалиться с ним в постель не торопилась, предпочитая безнаказанно интриговать и туманно намекать на возможность близости.
– Удивляешь ты меня, Оська, – посочувствовала Любочка. – Какой раз Светка тебя динамит. А ты всё попадаешься.
– Но ведь так хочется, – простодушно признался Гранечка.
– Рыжьё к рыжью тянется! – в проёме кабинета стоял директор школы. Неожиданно благодушный, будто не он только что истово распекал юных нарушителей. – Кстати, Граневич, насчет исполнения желаний. Я показал твою тетрадку с задачками по физике дружку своему – проректору Бауманки. Вчера звонил. Считает, что в тебе искра божия. В общем, вот адрес. Отправляйся в Москву подавать документы. Как говорится, добрый фут под килем.
Смущенного, раскрасневшегося Граню принялись охлопывать.
– А дружок этот ваш знает, что Оська еврей? – встрял Клыш.
Оживление схлынуло.
– А причем здесь это?! – голос Эйзенмана сделался пронзительно тонким. – Вот скажи, – при чём?! Антисемитизм в СССР изведён на корню! – отчеканил он.
– Может, в СССР и изведён, – негодующий директорский пыл Клыша несколько смутил, но не сбил. – Может, и в десятой школе вы его выжгли. А в Бауманке-то – все говорят – евреев даже с абсолютным баллом прокатывают. Вам ли не знать?
Эйзенман нахмурился.
– Знаю, конечно! – через силу признался он. – И он, проректор то есть, знает. И, прежде чем приглашать, вопрос согласовал… Ты в самом деле очень талантлив, Ося. Но талант нуждается в шлифовке. Остановка в начале пути губительна. А в Бауманке тебе будет за кем тянуться. Да и от дружков-елдоносцев подальше. Помни: главное, надо больше трудиться.
– Так он и так вовсю трудится. Над Светкой! – прыснул Алька.
– Вот совершенная во всех отношениях дылда! – Эйзенман нахмурился, пряча улыбку. – Просто-таки разносторонне недоразвитая личность. Твоего-то, Поплагуев, таланта до сих пор только и хватает, чтоб Наташку под партой тискать да на трубе греметь. А у Граневича искра… В общем, двигай, Осип, в Москву, и поживее.
– Никуда я не поеду, – буркнул Гранечка. – Как я маму на этого долбака оставлю?
Эйзенман заново присмотрелся к свежему кровоподтёку на Оськиной щеке. Изменился в лице.
– Опять?! Думал, это тебе в драке… Он же мне клялся, что больше пальцем не дотронется! Ах, Ося, Ося!
Несмотря на исполнившиеся семнадцать лет, отец по-прежнему поколачивал Осипа. Сначала, как правило, доставалось жене. Гранечка, трепетно любивший мать, при каждом таком случае впадал в неистовство; как в детстве, бесстрашно набрасывался на здоровенного отца. Но защитить ни себя, ни мать не мог.
Как-то затейник Алька подбил его подзаработать – сдать кровь. Оська сдал двести грамм и упал в обморок. Ему быстренько влили двести назад, потом еще двести и – вышибли, предложив больше не появляться. Узнав о таком приработке, Семён Абрамович долго, заливисто хохотал.
– Еще раз мать тронет – убью, – глухо пообещал Гранечка.
Гранечка вообще слыл застенчивым и незлобливым гением – чудаком, слегка не от мира сего. Но окружающие знали, что, дойдя до какого-то предела, кроткий Граневич делался неуправляемым. Похоже, предел этот был достигнут.
– Не дури, Осип, – Эйзенман встревожился. – Только в жизнь вступаешь. И портить её из-за всякого… – он сдержался. – А насчёт приглашения… Такими возможностями не разбрасываются.
Анатолий Арнольдович оглядел всех троих.
– Что ж? Вроде, всё сказано. Хоть я и атеист, но, пожалуй, сегодня поставлю свечку, что от таких ученичков избавился.
– Надеюсь, со следующими вам повезет больше, – пожелал Клыш.
Алька воздел руки вверх.
– Благородные доны! Попрощаемся с родными пенатами, из коих нас безжалостно и, я бы сказал, беспардонно изгоняют, – заунывно протянул он. – Благородные доны-ы!
По его сигналу, все трое изобразили глубокий, «мушкетёрский» поклон. По команде: «И оп!» – развернулись и, стараясь шагать в ногу, замаршировали к выходу. Они не видели лица сурового директора. С томным, почти нежным выражением смотрел он, как удаляется троица молоденьких выпендрюжников, которые совсем скоро, буквально через два-три года, обещали сформироваться в необычных, ни на кого не похожих мужчин.
Провожала их взглядом и Любочка. С томлением глядя на поджарый зад отставленного любовника, она пожалела, что поторопилась с разрывом.
Отвальная«Отвальную» по школе назначили в Поплагуевской квартире. Родители его на неделю укатили в пансионат.
Поначалу Алька планировал организовать вечеринку у Земских. Но накануне он поднёс тёте Тамарочке подарок: страховой полис, по которому застраховал свою жизнь в её пользу. К удивлению Альки, был он гнан страшным криком. И они до сих пор не помирились.
Всё в этот июньский, прощальный вечер казалось насыщенным особой, ностальгической негой.
Чудно смотрелась красавица Наташка Павелецкая, на правах хозяйки дома распоряжавшаяся сервировкой стола.
Что и подтвердил Гранечка, притащивший целый куст роз, за которым сам Оська едва угадывался.
– Прекрасной хозяйке дома! – галантно объявил он, мокрый от листьев и дождя.
Женщины зааплодировали. Красивую сцену несколько оконфузил Павлюченок.
– Опять в Мичуринский сад, в оранжерею, лазил, – едва глянув на розы, определил он.
Впрочем, компенсацией Гранечке стал заинтересованный, вселивший надежду кивок Светки Литвиновой.
Минутную неловкость сняло появление Гутенко в немыслимой замшевой курточке с позолоченным шитьем, удачно подчеркивавшей его осиную талию и пристроченные к губе усики. Выслушивая комплименты девочек, он ненароком прокручивался тореадором на арене.
В отличие от несколько вертлявого Вальдемара, новоиспечённый кандидат в члены КПСС Павлюченок, сменивший бубенчики на красные клинья, а батник на водолазку, лишней суеты себе не позволял. Кличка Кот Баюн, которой наградил его Поплагуев, подходила Павлюченку идеально. Его большие, с поволокой глаза лениво оглядывали собравшихся девушек обманчиво сонным взглядом изготовившегося к охоте кота. Сегодня, впрочем, Котька был не один, – затащил на вечеринку последнюю свою подружку – фотографа по договору Мари Шторм и то и дело плотоядно косился на её губы – пухлые, будто велосипедные шины. Вообще-то родители-поляки назвали дочь Марысей. Но имени этого эпатажная девица стыдилась и представлялась всем как Мари.
С Котькой пришёл и новый в компании человек – Баулин-младший.
– Знакомьтесь – Роб Баула. Редкостный негодяй и мой большой друг, – представил его Баюн. И тем обеспечил всеобщий интерес.
Впрочем, завладеть вниманием Робик умел и без посторонней помощи.
Оказавшись в новой, незнакомой компании, он напористо врывался в любую беседу. Совершенно неважно было, что он при этом говорил. Начинал он говорить прежде, чем осмысливал предмет разговора. Да предмет ему был и неважен. Важно было вклиниться в разговор и с разгону утвердить себя. Так, например, если в компании рассказывали анекдот, Робик тут же обрадованно хлопал себя по ляжке: «А кстати, забойный анекдотец на ту же тему». И выдавал первое, что приходило на ум. Чаще всего совсем некстати. Но главного достигал – всеобщее внимание переключалось на него.
Сейчас, впрочем, Робик больше зыркал на угол, где выстроились приготовленные батареи столовых вин. Вперемешку стояли «Анапа» крепкое белое; «Портвейн» красный крепкий; «Токай»; «Мадера»; «Ликер лимонный»; «Вино яблочное»; «Лучистое» крепкое; «Грушёвое»; «Золотая осень»; «Солнцедар». Пять штук плодово-ягодного за 92 копейки. В простонародье – «гнилуха». Самое дешёвое и «злое». На него сбрасывались, когда деньги вовсе были на излёте. Отдельно – три бутылки «Рислинга» – для девочек. «Похоже, натащили, кто что смог», – опытным взглядом определил Баулин.
Боря Першуткин, вытянутый стебельком, с прозрачным шёлковым платочком, подвязанным на худенькой шейке, то и дело тревожил рукой свои длинные, по плечи волосы. Тревожил и – страдал. Несмотря на тщательный уход, тонкие волосы выглядели жидковато, и Першуткин завистливо поглядывал на волнистые патлы громогласного Робика Баулина.
Наконец, решился подойти.
– Мы с тобой здесь самые лохматые, – заискивающе произнес он.
Робик пренебрежительно глянул.
– Из одного такого лохматого, как я, можно пошить двух таких лохматых, как ты, – отбрил он. На глазах девчонок ловко закурил, чиркнув спичкой о штанину.
Униженный Боря отошёл к Велькину. Паша единственный, кто не заморачивался по поводу внешнего вида. Костюмы и нейлоновые рубашки ему подбирала Валя Пацаул – в комиссионках. Так выходило дешевле.
Волнующе хороши были дамы.
Светка Литвинова явилась в кремпленовом мини, обтягивающем ее соблазнительную попку.
Рыжеволосая Светка с солнечными веснушками на вздернутом носике разглядывала мужчин своим честным бесстыжим взглядом, оценивая по обыкновению снизу вверх.
Сегодня Светка впервые вывела в свет младшую сестру – Сонечку.
– Прилипла, шалава малолетняя! Не отогнать, – коротко объяснилась она. Сестрёнка в самом деле увязалась за ней, как только прослышала, что на вечеринке будет Павлюченок. Год назад восьмиклассница Сонечка увидела в школьном оркестре стильного литаврщика. И с тех пор волоокие Сонечкины глазищи с ресницами, подведенными тушью до размера крыла бабочки махаон, при встречах с Котькой вперивались в него с откровенностью порочной невинности. Несмотря на юный возраст, Сонечка выглядела совершенно созревшей. Легкий сарафанчик, казалось, готов был треснуть под натиском сочного тела, будто шкурка спелого персика.
Вообще каждая из дам облачилась в наряд, удачно подчеркивавший самые выигрышные детали фигуры.
На Мари Шторм, к примеру, был целиковый брючный костюм в обтяжку – с волнующей молнией на спине, терявшейся меж ягодиц.
Даже приземистая Валя Пацаул втиснулась в вельветовые джинсы. Пуговица угрожающе потрескивала. Так что Валя, от греха подальше, старалась дышать в полвздоха.
За стол пока не садились – ждали Клыша. Впрочем, безупречный вид стола оказался всё-таки нарушен: из мясного салата сама собой исчезла петрушка, – Гранечка со скорбным выражением лица, быстро двигая челюстями, отошел к окну.
В ожидании опаздывающего разбились на две группы: мужскую и женскую.
Женщины говорили о своем – о девичьем, мужчины о своем – о девицах. Несколько нарушал гармонию Боря Першуткин. Привычно затеревшийся на женскую половину и живо включившийся в обсуждение последней коллекции от Зайцева.
В мужской вниманием завладел Робик Баулин.
– Жизнь, други мои, сплошная продираловка сквозь дебри человеконенавистничества, – авторитетно вещал он. – И я рад за вас, что свезло вам познакомиться с человеком, который проведёт вас сквозь перманентную гнусь бытия, аки Моисей по водам. С Робиком не пропадете. Робик – он личность философическая. И потому – безудержная в своей невоздержанности.
Непривычную, витиеватую речь слушали, дивились. Бросали оценивающие взгляды девочки.
Наконец, явился Клыш – в белой марлёвке. Держался Данька со скромным достоинством. О разрыве с Любочкой Павалий знали, и его выдержка перед лицом свалившегося несчастья вызвала восторженный шепоток женщин. На него смотрели с состраданием. Наташка Павелецкая, встречая, как-то по-особенному пожала ему руку. Когда же Клыш с чувством затянул романс «Не искушай меня без нужды», девочки с пониманием переглянулись – это было тонко.
Принялись рассаживаться. Но не все. Исчезли Фома Тиновицкий и Зулия Мустафина. Уединившись в узком чуланчике, в тесноте, колени в колени, шептались.
– Фомик, милый, что могу? – говорила Зулия. – Я уж просилась за тебя. Но отец на своем стоит. Без калыма не отдаст. Никак не может быть без калыма. Что я против него? Говорит: хоть пять тысяч пусть найдет! Иначе – голодранец!
Услышав астрономическую цифру, Фома застонал:
– А то не думал? Даже если байк продам: ну, тыща! Даже если голубей!.. – от страшной перспективы Фома зажмурился.
– У тебя ж отец – стеклодув, – напомнила Зулия. – Сам говорил, хорошо получает. Пусть в долг даст. Отработаем, вернем. Я сама хоть на две работы пойду!
– Отец! Будто не говорил. Веришь, – на колени встал. Упёрся, желваки играют: «Нету!» А знаю, что есть. Не пьёт, не курит. Машина – «Победа». Старьё. По десятку раз перебирали. Он пацаном блокаду пережил. С тех пор откладывает. Куда девает?! Я уж, – Фома приглушил голос, склонился поближе, – дважды квартиру перерыл. Думаю, найду, а потом пусть хоть башку оторвет! Нету! На книжке сберегательной копейки! Горлинка моя! Ведь в армию по осени заберут. Дождёшься ли?
Он жадно вгляделся в округлое личико Зулии, в глаза – блестящие бусинки.
Она отвела взгляд:
– Я бы дождалась!.. Фомик, милый! Поступи ты в политех. Хотя бы на РТМ (Разработка торфяных месторождений). Туда, говорят, всех берут, даже кто баллов не набрал. И военная кафедра есть. Ну что ты упёрся?
– Что РТМ?! Болото после океана! – воскликнул Фома. Он уже дважды поступал на географический факультет МГУ. Дважды проваливался. Но от мечты не отступался.
Он прижался к Зулие, лоб в лоб.
– Меня в Прибалтику на ночные мотогонки зовут. Выигрыш – знаешь, какие деньги? А может, и на регату попаду. Там вообще – хватит, чтоб папашу твоего ненасытного залить. Ты только дождись! – умолял он.
– Я бы дождалась, – отвечала Зулия.
Так и сидели обнявшись.
Когда спохватились и принялись их искать, оба уже тихонько покинули квартиру.
За столом меж тем со значением поднялся Робик Баулин.
– Дети мои! Я знаю вас всего ничего, но полюбил искренне и всяко-разно, – он отеческим жестом приглушил гул, постучал ножом по бокалу. – Позвольте мне как старшему из вас и умудренному тем, чем вам еще только предстоит умудриться, во-первых, назначить себя тамадой, во-вторых, сказать мудрое слово! Возражений нет?
– Есть! – Клышу самозванный, развязный тамада не понравился, жестом опустил его на место. Поднялся сам:
– Традиционный первый тост – за Дом 2 Шелка! Мужчины – стоя!
Все повскакали.
– И я, и я! Добавить! – заторопился Гутенко. Боясь, что перебьют, зачастил: – Благородные доны из исторического дома Шелка! Совсем недавно мы не побоялись встать единым кулаком против банды Кальмара! – глянул гордо на смущенного Велькина. – Ну и где теперь Кальмар? И если кулак не разожмём, то впереди у нас великие свершения. Пришло наше время. Только что новый Генсек объявил курс на ускорение, опору на молодёжь. На нас, значит, – на Дом Шёлка. Гляньте вокруг, сколько нас. Неимоверная туча! Дон к дону, мушкетёр к мушкетёру. Это ж какие социальные пласты все вместе собой закроем! Я после армии в ОБХСС думаю. Так что ментовка, считай, за мной. Павлюченок на комсомол, а следом на партию сядет. Клыш?
– КГБ, – подсказал Алька.
– Замётано. Оська – это даже не обсуждается. Считай, готовый нобелевский лауреат. Трое наших в медицине. Стало быть, здравоохранение перекроем. Железный же кулачина! Лет через пять – десять весь город под себя подомнём. И потому! – он набрал воздуху. – Дом два Шёлка во веки веков!
Выпили по первой, не закусывая. Следом по второй. Затем по третьей – поподробней.
– А теперь – за будущих молодых! Чтоб не тянули со свадьбой, – выкрикнул истомившийся без внимания Баулин. – Горько мне!
– Горько! – подхватили остальные.
Наташка и Алька, счастливые, раскрасневшиеся, поднялись и потянулись друг к другу с поцелуем, – под восторженные крики. Непрошенной поднялась Валя Пацаул, потащила вверх Велькина.
– Мы с Пашей тоже решили пожениться… Скажи!
– Валя говорит: иначе неудобно, – подтвердил Велькин.
– А которые не женятся, те дабы не нарушать гармонию! – возопил Котька и впился в губы соседки – Мари Шторм.
Крики сделались громче.
Кричали все, кроме Сонечки. Она не стыдясь плакала и сквозь слезы завистливо зыркала на Котькину подружку, как ребенок, на глазах у которого поедают любимое мороженое.
Сама переменчивая Мари исподволь поглядывала на румяного хозяина квартиры. Нынешним кавалером она уж пресытилась.
Гул смолк: в дверном проёме в приталенном плащике и с чемоданом стояла Любочка Павалий.
– Там дверь не заперта! – объяснилась она. Смущенно улыбнулась. – Так захотелось перед отъездом всех вас повидать. Сегодня с Владюлей в Москву уезжаем, с родителями его знакомиться. Отпросилась к подругам попрощаться. Вроде девичника. Приютите на пару часиков? Просто посидеть напоследок!
– А то не приютим! А то не родная! А то не проводим! – Валеринька Гутенко ужом подлетел, отставил чемодан, стянул плащик. Как-то само собой освободилось местечко возле Клыша. Сидящий подле Баюн наполнил бокал. Любочка наклонилась, нюхнула:
– Опять сивуху пьёте!.. Ну, разве что символически!
Пригубила.
– А штрафную? А за семейное счастье?! – встрял Баулин.
– Какие же вы обормоты! – Любочка сделала большой глоток. Отставила.
Но уже поднялся Поплагуев.
– Доны и донессы! Сегодня особенный день. Все мы вступаем в жизнь. Как говорит мой папахен, суровую, как солдатская пряжка. Уходит золотое детство. И так совпало, что в знаменательный этот день провожаем первого человека из Дома Шёлка! Нашу, можно сказать, общую любимицу отдаём замуж за неведомого московского человека! – Алька ловко смахнул несуществующую слезу. Шмыгнул носом. – Так давайте, чтоб запомнилось! За тебя, Любочка! До дна! А то счастья не будет!
Прочувствованный спич Любочку растрогал. Она выпила полный фужер, порозовела и весело принимала поздравления.
Меж тем становилось всё шумнее.
Катушечный магнитофон, дотоле «барабанивший» голосом Гнатюка, всхрюкнул и выдал «Падает снег».
– Ой, лапочка Адамо! Любимчик! – первая дворовая оторва и эпатажница Светка Литвинова выскочила на середину комнаты, стянула через голову платье и, оставшись в открытом купальнике с розочкой на плавках, принялась медленно извиваться под музыку.
Конечно, главным здесь был не Адамо, а купальник. Купальник этот она сфарцевала у спекуля и третий день таскала на себе, ища случай публично продемонстрировать.
Глядя на извивающуюся Светку, нахохлившийся Гранечка сжал зубы, яростно схватил пригубленный бокал и, хоть и давясь, впервые в жизни допил до дна. Изумившись самому себе, наполнил заново – дабы закрепить навык.
Воспользовавшись тем, что хлопотавшая по дому Наталья отлучилась на кухню, Мари Шторм очень ловко перехватила в коридоре Альку, безмолвно втолкнула в кладовочку, оставленную Зулиёй и Фомой. – Иди что покажу! – пробормотала она. Захлопнув ногой дверь и прижав его спиной к шкафу, жадно впилась в губы.
– Уймите ваши порывы, барышня! – Алька захихикал. Принялся неловко отбиваться. Но разохотившаяся Мари уже поползла вниз.
– Молчи, дурачок! Сделаю приятно, – горячо прошептала она. Натренированным движением ухватилась за змейку, попыталась дёрнуть.
Дверь распахнулась. Через проём в кладовку полился свет из коридора. И в этом проёме таращилась на них Наташка Павелецкая.
Алька дёрнулся, на сей раз нешуточно, отбросил насильницу в сторону.
– Татка! Это совсем не то, что ты думаешь! – пробормотал он, чувствуя себя полным идиотом.
Почерневшая Наталья, поджав губы, развернулась. Входная дверь хлопнула.
– Ты – дурра! – заорал на Мари Алька. Оправляясь на ходу, кинулся догонять.
– Чего она, шуток не понимает? – удивилась Мари.
Алька добежал до двери, когда снаружи позвонили.
«Вернулась!» – счастливый, готовый упасть на колени, распахнул дверь. Отшатнулся.
Вместо Натальи в квартиру ввалился изможденный, невеликого росточка сорокалетний человек с задранным кончиком носа – в форме башмачка с воронкой посередине, – будто подмётка продырявилась. Это был сосед Поплагуевых по площадке пьяница Николай Сергач. Впрочем, на работе, в Обществе по распространению знаний, где Сергач трудился лектором-международником, он слыл за человека вовсе непьющего, хотя и слабого здоровьем. Спасали хорошая реакция и жена – старшая медсестра в райполиклинике. Всякий раз, готовясь впасть в запой, Сергач успевал оформить больничный.
Судя по мутному, страдающему взгляду, болел марксист-международник не первый день.
– Шум по подъезду стоит. Отец, поди, не знает, чего тут у вас куролесится, – произнёс Сергач со строгостью.