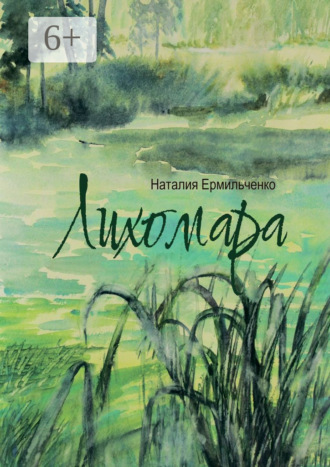
Полная версия
Лихомара
– А как же, – кивнула Бабуля.
– Опять, небось, деньги собирать хотят, – пробормотала Буланкина и удалилась.
Бабуля долго ахала – сначала из-за панамы, потом из-за того, что не смогла разделить растения; уж очень они крепко держались друг за друга усиками. И, в конце концов, посадила душистый горошек возле сарая вместе с лентой и полями. Моня решила, что так даже лучше: по крайней мере, Горошина не будет вопить из-за дырок.
А лихомара давно уже сидела дома и переживала, потому что, как и Моня, не любила врать.
Утром, когда заканчивали завтракать, со стороны калитки долетел слабый свист. Точнее, два свиста, длинных.
Моня воскликнула:
– О! Носков! Бабуль, можно, я полчасика погуляю?
Бабуля, понятно, не стала возражать. Потому что жестоко было бы не отпустить человека повидаться с другом детства, который уезжал аж на три недели. Уезжал Носков в Коктебель, он каждый год туда уезжал с родителями. А два длинных свиста означали два тире – букву «М» в азбуке Морзе. Самого Носкова надо было вызывать коротким свистом и длинным: точкой и тире, потому что у него имя начиналось на «А». Азбукой Морзе увлекался их общий знакомый, у которого дача наискосок от Носкова. Но знакомому сейчас свистеть вообще не имело смысла: он сам усвистел – на Рижское взморье. Своих родителей Моня уже не раз спрашивала, когда же они-то с Горошиной побывают на море. И мама отвечала: «Я надеюсь, когда-нибудь побываем». А папа уверял: «Да что море! Это только кажется, что там лучше. В сущности, везде одно и то же». Как это – одно и то же, если там море есть, а тут, на даче, нет?
– Наконец-то я вернулся! – объявил Носков, когда Моня вышла к нему за калитку.
Он всегда так говорил, когда приезжал из Коктебеля.
– Носков, ты так говоришь, как будто тебя там мучили, – заметила Моня. – А сам вон, какой загорелый! И потолстел.
– А что там делать? Только купаться да есть, вот я и ел, – объяснил Носков, сворачивая в лесок.
Потому что, если не ходить по улице, то прогулка на полчасика – это до болота и обратно.
Носков сам настаивал на том, чтобы его звали по фамилии, хотя и жаловался, что в школе дразнят то Носком, то Чулком, а иногда и Гольфом. Родители и бабушка звали его Аликом, и Носков утверждал, что иногда прямо не хочется отзываться, так его раздражает это уменьшительное имя. Ему, как ни странно, нравилось полное – Альберт. Но оно плохо сочеталось с фамилией. И Носков дожидался получения паспорта, чтобы тогда что-нибудь поменять – имя или фамилию. Только не мог пока решить, что. То ли другую фамилию к имени подобрать – например, Альберт Нарский или Апрелевский (потому что это самые удобные электрички к ним на дачу, нарские и апрелевские). То ли все-таки оставить фамилию, потому что потом его уже дразнить не будут, а имя выбрать новое, не такое альбертистое.
Моня была за Альберта и против Носкова, но считала, что среди остановок электрички (за Апрелевкой) есть более подходящие варианты: допустим, Альберт Бекасов или Рассудов. Алабин – тоже ничего. Можно даже Альберт Калугин (дальше Калуги электрички не ходят). Но от Калугина Носков отказался сразу, потому что калужские электрички у них на станции не останавливаются.
– Мне там только музей Волошина нравится, – продолжал Носков. – Когда вырасту, у меня тоже, может, будет такая мастерская: с большими окнами в сторону моря. И то подумаю: Ба говорит, что зимой в большие окна будет ветер задувать. А в горы нельзя – там заповедник. А на пляже скучно.
– А здесь, что, не скучно, что ли? – возразила Моня.
– Да? А ты знаешь, что у нас в леске каждый вечер туман? В поле нет, на улице нет, на дороге нет, а в леске есть?
– Не знаю, – сказала Моня. – Бабуля вечером в лесок ходить не разрешает.
– И мне Ба не разрешает. Даже ту калитку запирает на замок, чтоб я не убежал и не заблудился. А что я, ненормальный, что ли? Подходишь к забору, а за ним ничего не видно, все белое и мутное. И над забором как будто стена. Хорошо, что этот туман хоть на участок к нам не лезет!
Носков вообще-то удобно устроился: у него были две калитки. Одна обычная, на улицу, а вторая – собственный выход в лесок. У всех, кто жил в этом ряду, вплотную к общественному забору, были свои калитки в лесок, – и у Мурика, и у Диты, а Моне приходилось ходить через общие ворота. И Носков с Муриком жили с правой стороны от ворот, а были еще участки слева, и у всех тоже калитки в лесок. Даже, между прочим, у Буланкиной, а она-то уж точно этого не заслужила.
– Я, кстати, видела недавно от ворот, как в лесок валил туман, – вспомнила Моня. – Мамочки! Это страшно. Он как раз оттуда валил, куда мы идем. Может, из болота. Или из речки.
– Я тоже думал, что из болота, а он от Буланкиной!
– Что?!
Носков был серьезен и печален. Прямо не Носков, а Альберт Нарский – в крайнем случае, Апрелевский.
– По-моему, она только чай пить умеет у нас в гостях, – сердито сказала Моня. – И с соседями ругаться из-за черноплодки. И ко всем придираться. И еще Горошину лихомарой пугать.
– Чем-чем? – удивился Носков.
– Она заявила, что если Горошина будет с ней спорить, придет лихомара и утащит ее в болото. Она, видите ли, как призрак: белая и мутная; кажется, что лицо, а это туман. Вот кто после этого Буланкина?
– Жаба, – подтвердил Носков.
– Даже хуже! – уточнила Моня. – Жабы хоть никого нарочно не запугивают.
– А может, у нас есть в болоте лихомара? – с надеждой спросил Носков. – Я узнаю у Ба. Это она мне сказала, что Буланкина каждый вечер гуляет в леске. И как пройдет мимо забора, так потом и начинается туман!
К тому моменту они как раз дошли до болота и остановились.
– Правда, что ли? – прошептала Моня. – Мамочки! Что ж ты раньше молчал?
– Да я же в Коктебеле был! – воскликнул Носков. – Я же перед самым отъездом узнал. И придумал план! А тут Коктебель! Я прямо не знал, как проживу там эти три недели!
Вот сейчас он был никакой не Альберт.
– Носков, ты чего так разорался? – сказала ему Моня. – Хочешь, чтоб Буланкина услышала?
– Ну и пусть! – расхрабрился Носков. – Придет, напустит туману, заблудится в нем и свалится в болото!
– Не свалится, – вздохнула Моня. – Если правда, что туман из-за нее, значит, она в нем хорошо видит.
– А мы проверим. Спрячемся у меня под забором и посмотрим, как Буланкина будет мимо проходить.
– А потом?
– Потом придумаем новый план.
– Интересно, как она его напускает? – сказала Моня.
– Наверно, выдыхает, как дракон пламя! – предположил Носков.
Моня тут же представила себе, как туман клубами вырывается у Буланкиной из ноздрей, струйками вытекает из ушей, валит из пасти… в смысле, изо рта… И, короче, всю обратную дорогу они с Носковым веселились, обзывая Буланкину туманодышащим драконом.
Лихомара была дома. Она только-только перестала переживать из-за вчерашнего своего вранья, а тут узнала голос и вспомнила, как представилась Машей. Ни у подруги из Зайцева, ни у приятельницы из Ямищева имени не было, но раньше она об этом как-то не задумывалась. Лихомары друг к другу обращались по названию ближайшей деревни: Бреховская, Зайцевская, Ямищевская… Иногда только Ямищевская говорила ей добродушно: «Ну, ты и Маша!» Но это было примерно то же самое, что услышать: «Вот ненормальная!» от зайцевской подруги.
На ямищевскую приятельницу лихомара тоже не обижалась: ей нравилось слово «Маша». Только стало немного грустно, что она на него не имеет права. А тут еще услышала фамилию. Почему у людей даже неприятным особам положены фамилии, хоть какие-то, вроде «Буланкина», а у лихомар такого нет?
И после того, как Моня с Носковым ушли, лихомара до самого тумана представляла себе, будто она на самом деле Маша, и думала, какая бы у нее могла быть фамилия.
Но ничего, кроме «Бреховская» в голову не приходило.
– …Как подумаю, каким был Муррус храбрым, аж страшно становится! Однажды он плыл по морю на корабле, а тут пираты. Как захватят в плен, как потребуют выкуп!
– Кошки-мышки! – сказал Ах-Ты. – А какой они хотели выкуп?
– Деньги. Кучу денег. Вот не знаю точно, сколько это будет в пересчете на мышей. Допустим, двести.
– Совсем обалдели! Куда им столько мышей?
– Естественно, обалдели! – подтвердил Мурик. – Они же пираты! Пираты мышей вообще не едят. А они: «Двести мышей – или продадим в рабство!»
– О как!
– А Муррус был не один – с ним вместе плыл Юлий Цезарь. Тоже полководец; он был Муррусу очень предан. Он потом устроился императором в городе Рим-муре (иногда еще его называют просто Рим). Специально, чтобы Муррус ни в чем не нуждался. Куда ж его в рабство, сам понимаешь, кто тогда будет императором? Но Муррус нисколько не испугался. И Юлий Цезарь говорит пиратам: «Да вы знаете, с кем имеете дело? За такого кота двести мышей? Пятьсот – вот достойный выкуп!»
– И что? – с интересом спросил Ах-Ты.
– И они отправили свою команду на берег за выкупом, а сами остались у пиратов. Но Муррус вел себя там прямо по-хозяйски! Например, перед тем, как вздремнуть, он посылал Цезаря приказать пиратам, чтобы не шумели.
– Класс!
– Так это еще не все! Муррус мурлыкал песни, а Цезарь читал стихи – свои. Пиратам. А тех, кто не хвалил, они царапали и ругали собаками.
– А пираты?
– Терпели. Все тридцать восемь дней. Потом вернулась команда с выкупом, и Мурруса с Цезарем освободили. Но они тут же снарядили новый корабль, напали на пиратов и не оставили от них ни шерстинки, вот!
На слове «вот» налетел ветер – даже ветрище. Мигом раскачал еловые лапы, разлохматил иву, а чубушник заставил кланяться до земли. И пригнал тучу, которая встала над забором, накрыв тенью котов. Мурик и Ах-Ты, не прощаясь, разлетелись от этой тени в разные стороны, легко, как бумажки от сквозняка.
Моня закрыла окно и помчалась вниз, сообщить Бабуле, что скоро начнется гроза.
– Да, миленькая, – подтвердила Бабуля, обернувшись к ней от плиты.
– Ни с того, ни с сего! – сказала Моня с возмущением.
– Наверное, Алевтина Семеновна приехала, – улыбнулась Бабуля.
Тут же на пороге возникла Горошина и пропищала:
– Где Семеновна?
Алевтина Семеновна, еще одна соседка, на даче бывала наездами. И как-то так ухитрялась появляться, что сразу начиналась гроза. И это при том, что пережидать грозу ей было особо негде. Дом у нее давным-давно набился разными вещами, так что самой Алевтине Семеновне места в нем не осталось. Только на веранде немножко. Там она ночевала, когда ночи были теплые. А когда холодные, просилась к Моне с Бабулей. Еще она приходила ужинать и восторгалась всем, что Бабуля ставила на стол. У себя Алевтина Семеновна ела только картошку с подсолнечным маслом.
Моня за ней наблюдала с интересом. Столько веснушек, сколько у Алевтины Семеновны, она не видела больше ни у кого. Не только на носу и щеках, но еще на руках, на плечах и даже на ногах – это было заметно, когда Алевтина Семеновна приходила в сарафане. Волосы у нее были рыжеватые – судя по тем прядям, которые выбивались из-под косынки. А голос – стрекочущий. Когда она разговаривала с кем-нибудь у себя на участке, можно было подумать, что это трещит сорока. А косынку, кроме Алевтины Семеновны, из знакомых не носил, кажется, никто. Всегда одна и та же, линяло-красного цвета, она закрывала лоб почти до самых бровей и сзади завязывалась узлом. В таких косынках иногда изображают пиратов в книжках для детей. У пиратов они тоже линялые – а может, на солнце выгорели. И в чем бы ни появилась Алевтина Семеновна, все было не то линялое, не то выгоревшее. Прямо пират!
Линялые вещи Моне не очень нравились, но недостаток Алевтины Семеновны она видела в другом – правда, всего один. Когда Моня была еще маленькой, Алевтина Семеновна, стоило прийти в гости, сразу хватала ее, сажала к себе на колени и начинала читать стих про сороконожку:
У сороконожки народились крошки.
Что за восхишенье, радость без конца!
Дети эти – прямо вылитая мама:
То же выраженье милого лица.
Моню это бесило. К счастью, она быстро выросла, и они с Алевтиной Семеновной оказались почти что одного роста, так что схватить Моню и посадить на колени стало слабо. К тому же, Моня наотрез отказалась ходить с Бабулей к Алевтине Семеновне в гости, а за ужином Алевтина Семеновна стихи не читала.
Но тут родилась Горошина. Алевтина Семеновна страшно обрадовалась и при первой же возможности схватила ее и застрекотала про сороконожку. Моня пришла в ужас, а Горошине, как ни странно, понравилось. И, видимо, она решила, что Алевтина Семеновна для того и живет на свете, чтобы читать ей это стихотворение. Сестра называется! В общем, как ни печально, сороконожки пролезли в дом. Моня закатывала глаза и выходила из кухни, но было ясно, что когда-нибудь Горошина выучит стих наизусть, хоть он и длинный.
Зато Буланкина, застав у них в гостях Алевтину Семеновну, быстро убиралась восвояси. Иногда Моня думала, что ради этого сороконожек можно и потерпеть.
– Бабуль, а зачем четвертая тарелка? – спросила Моня, когда они садились ужинать. – Правда, что ли, Алевтина Семеновна приехала?
– Ну, гроза-то была, – засмеялась Бабуля.
Моня глянула в окно на калитку (просто так, само глянулось), – и как раз увидела Алевтину Семеновну в дачной косынке – той самой, линяло-красной. Опять примета сработала!
Алевтина Семеновна прямо с порога ласково застрекотала, обращаясь к Горошине. Моня терпеть не могла всяких там «зайчиков» и «птичек», а от «рыбонек» и «деточек» ей становилось худо. Но, с другой стороны, раз после ужина вместе прогулки будут «Сороконожки», можно смотаться к Носкову. Он сказал, что если Моню не отпустят, то начнет выслеживать Буланкину сам, а то уже август, и можно до школы не успеть. Досадно же, если Носков увидит, а она нет!
Алевтина Семеновна села поближе к Горошине:
– Деточка, ну расскажи мне, как ты живешь? Боже мой! Картофельное пюре! Какое счастье! – Это она уже Бабуле. И снова Горошине: – Ты любишь картофельное пюре? Твоя Бабуля готовит его лучше всех!
– Люблю, – сказала Горшина. – Только у нас закончились сказки!
– Вот как? Ну-у, это не беда! – обрадовалась Алевтина Семеновна. – Я тебе сейчас расскажу сказку. Ты про что хочешь послушать?
– Про лихомару! – пропищала Горошина.
– Вон что ты знаешь! – удивилась Алевтина Семеновна.
– Гм… может, не надо? – пробормотала Моня.
– Нет, я хочу про лихомару! – уперлась Горошина. – Про то, как она всех утаскивает к себе в болото.
– Деточка, да нет, она никого не утаскивает, – застрекотала Алевтина Семеновна. – Ну посуди сама: в этих заросших прудах, в этих заболоченных канавах чего только нет. И лягушки там живут, и ручейники, и водомерки. Там и ряска растет, и цветы всякие болотные. И одной лихомаре места мало, а если она утащит, получится вторая! А вдвоем уже тесно. И потом, она даже такую, как я, с места не сдвинет. Она же как облачко или туманчик…
Горошина потыкала вилкой в пюре.
– А кого она знобит?
– Веруша, давай сначала поужинаем! – сказала Бабуля. – Алевтина Семеновна…
– Да, да! Кабачки бесподобны! Деточка, их надо обязательно съесть, пока они еще теплые! У лихомар такого пира не бывает.
– А какой бывает? – заинтересовалась Горошина.
– Веруша, кушай! – напомнила Бабуля.
– Да им вообще никакой еды не нужно, деточка, только вода. Они сырые. Потому от них и знобит. Но не всех. Вот если человек что-то сделает очень плохое, лихомара это почувствует, подкрадется сзади – рраз! – Алевтина Семеновна бросила вилку и схватила Горошину сзади за плечи, – и его прошибет озноб. И он начнет думать о том, как сильно провинился.
Как только Алевтина Семеновна снова взяла вилку, Горошина схватила свою и принялась наворачивать. Может, ей не хватало сказок за ужином, а то лучше бы ела?
– У нас есть книжка, где про лихомар написано, – сказала Моня, – но не так подробно, как вы рассказываете. Значит, они добрые?
– Они не злые, деточка. Кроме одной.
Алевтина Семеновна поправила свою пиратскую косынку – натянула поглубже на уши.
– А то очки спадают, – пояснила она. – Великоваты, а проститься с ними не могу: они мне очень идут!
– А можно завязать под подбородком, тогда очки не спадут, – предложила Моня.
Алевтина Семеновна отодвинула тарелку и повернулась к ней.
– Верно, деточка, но это хорошо для прохладной погоды. Сейчас я так запарюсь. Ты ведь слышала, что тут было когда-то графское поместье? Парк, пруд, цветники, дом большой…
– Да, – кивнула Моня.
– Я-то имею в виду самого последнего графа. До него тут его папа жил, а еще раньше дедушка, прадедушка. А последнему графу не повезло: случилась революция, все изменилось, поместье у него отобрали, а графский титул отменили. Но ему и вообще не везло. Говорят, у него была не то сестра, не то племянница. Очень хорошая. И вот ее здешняя лихомара вроде бы заманила в густой туман, как раз в эту канаву с головастиками, и бедняжка сама стала лихомарой!
– Вы же говорили, им вдвоем тесно…
– Так настоящая лихомара и не собиралась там с ней жить, она превратилась в эту барышню, не то сестру, не то племянницу! Ей хотелось быть графиней.
– Они так могут?! – ужаснулась Моня.
– Лихомары? Я только один такой случай знаю. Видишь, могут, но не имеют права. Получается, что она пошла на преступление ради красивой жизни. Ну, помнишь, как на портрете Орловой кисти Серова, но та вообще была княгиня… Не помнишь? Обязательно посмотри! Чтобы тебе диван, роскошное платье, декольте, бархотка на шее, бриллианты в ушах…
– И никто ничего не заметил?
– Заметили, конечно! Что графиня, как вернулась из тумана, стала ужасной придирой. До этого ее любили, а теперь всех от нее прямо трясло. И кто-то догадался, иначе я бы тебе эту историю не рассказывала. Но потом графа из поместья выгнали, и стало не до того.
Бабуля налила всем чаю и поставила на стол конфеты.
– А ведь сколько после революции было тяжелого, Алевтина Семеновна, – сказала она. – И настоящую графиню никто не тронул в болоте, а ненастоящая, небось, пропала.
– Да, не удалось ей всласть побыть графиней! – подтвердила Алевтина Семеновна с довольным видом и развернула конфету. – Так ей и надо. Чай со смородиновым листом? Прелесть! Только она не пропала, не скажите, такие не пропадают. До сих пор кому-то портит жизнь.
Носков на свист не отозвался. Ни на азбуку Морзе (точка и тире), ни на просто свист. А стручки акации в августе уже не те, чтоб в них свистеть, слишком жесткие. Пришлось зайти на участок без спроса, хоть Моня и рисковала. Ба Носкова была вообще-то довольно нервной бабушкой и запросто могла накричать не только на внука, а и на кого угодно.
Калитка у Носкова отсутствовала. Точней, она была, но скромно стояла в сторонке, проход не загораживала. Папа Носкова сделал ее в начале каникул с помощью какого-то родственника, и она получилась очень удобной. На ней можно было кататься даже втроем, а иногда и вчетвером – если Ба не видела. Что удивительно, когда она сломалась, на ней катался один Носков. Кажется, петли отвалились от столба. Но Носков успел соскочить. Ба тогда так разнервничалась из-за калитки, что ее голос было слышно даже у Мони, а до нее от Носкова три участка.
Но на этот раз Ба была настроена добродушно – может, успела успокоиться за три недели. Вышла из дома навстречу и сказала:
– Заходи, Машенька. Он там, в малине сидит под забором. И ужинать не дозовешься. Наверно, перегрелся в Крыму!
У всех счастливчиков с калитками в лесок – у всех без исключения – в конце участка вдоль общественного забора росла малина.
Вид у Носкова был такой, будто он действительно перегрелся. Он сидел прямо на земле и одной рукой держался за лоб. Увидев Моню, замахал ей свободной рукой и потянул на себя ближайший куст малины. Моня поняла, что надо пролезть к забору, пролезла и увидела спину Буланкиной – не очень далеко. Ноги подкосились, и Моня опустилась на корточки – прямо в крапиву, которую сначала не заметила, а зря: крапива в малине – неизбежность.
Недалеко от Носкова, через два участка, лесок заканчивался. Вдоль его границы тек ручей, а за ручьем начиналось поле. Кому надо было в поле, тот выходил из ворот, сразу поворачивал направо и шел по тропинке вдоль забора до самого ручья. Некоторые ухитрялись находить по дороге подосиновики, Моне ни разу не удалось. Зато она знала место, недалеко от Носкова, где у тропинки каждый год в мае цвел первоцвет весенний – желтенький такой. Больше он в леске нигде не цвел – только там.
В конце тропинки ручей было удобнее всего перепрыгивать. Но Буланкина, ясное дело, не тот человек, чтобы перепрыгивать ручьи. И она повернула обратно в лесок, но шла теперь не вдоль забора, а наискось, по траве. Значит, не домой.
– Я прямо не ожидал, что сразу получится, – прошептал Носков, присаживаясь рядом. – Стою, такой, рядом с малиной, выбираю, где устроиться, а Жаба р-раз мимо! Я даже спрятаться не успел.
Моня лизнула ребро ладони, ужаленное крапивой.
– Да уж…
– Куда это она? – шепотом спросил Носков, провожая взглядом спину Буланкиной.
– Наверно, к болоту, – сказала Моня. – А что это у тебя в канаве?
Канаву между забором и тропинкой вырыли тогда же, когда сколотили сам забор. Очень давно, Моня еще не родилась. Для того вырыли, чтобы весной талая вода стекала по ней в ручей. У ворот канава получилась глубокой и широкой, а ближе к Носкову мелела и сужалась, но все же через нее пришлось перекинуть мостик. И теперь под мостиком не то плескалось, не то кипело что-то белесое.
– Это же туман, ты что, не узнала? – удивился Носков уже не шепотом, а вполголоса.
– Надо же!
Моня привстала, чтобы получше разглядеть содержимое канавы, и случайно глянула в сторону ручья.
– Мамочки! – пробормотала она.
Над ручьем – или на ручье, – стеной стоял туман. Высотой стена была, как тогда, примерно до неба, и она уже начинала падать на лесок.
– Мостик! – вскрикнул Носков.
Моня перевела взгляд на мостик – и не увидела его: мостик затопило туманом, выпиравшим из канавы. Моня с Носковым одновременно вскочили на ноги – поднялся и туман по ту сторону забора. И очень быстро скрыл от глаз удалявшуюся спину Буланкиной.
– Ба! – заорал Носков.
– Ну, что, насмотрелся? – отозвалась Ба. Оказалось, она была рядом, просто в малину не полезла. – Давай ужинать. Сколько тебя ждать!
Вид у Носкова был самый, что ни на есть, насмотревшийся.
– Вот видишь, – сказал он Моне, – вовремя я вернулся!
Иногда Моне хотелось, чтобы их участок был где-нибудь в конце улицы, как у Носкова. Потому что мимо Носкова ходили и ездили только с одной стороны, и то редко, а мимо Мони – с двух, причем то и дело. А все из-за того, что когда-то дачные участки распределяли по жребию – кому какой номер достанется. И прадедушка вытянул четвертый, но это очень далеко от станции, за речкой, а Горбунка еще не было, и никто даже не подозревал, что он появится. Вот прадедушка и поменялся с кем-то на девяносто пятый, а участок с этим номером оказался угловым.
Так что ничего не поделаешь.
Одним углом он выходил на перекресток. Участок Алевтины Семеновны тоже выходил одним углом на этот перекресток. И участок тети Вали и дяди Пети Муриковых. И еще четвертый, необитаемый. Монина улица пересекалась там с проездом, который одним концом утекал в лесок, а другим вливался в соседнюю улицу. На перекрестке вечно стояли какие-нибудь тетеньки или дядечки и рассказывали друг другу про свою жизнь. А после собраний те же тетеньки с дядечками там же чем-нибудь шумно возмущались. Но собрания, к счастью, случались раз в год.
Понятно, что у народа с соседней улицы был свой перекресток. Но тамошний народ своим перекрестком не пользовался, а болтать приходил на Монин. И для этого еще проходил по проезду мимо длинной стороны ее участка. И когда в леске хотел погулять, тоже проходил. И на собрание – потому что его устраивали в леске. В общем, проходной двор!
Конечно, Монин перекресток был симпатичнее, потому что на каждом углу что-нибудь росло. На Монином – черемуха, на необитаемом – куст орешника, у Алевтины Семеновны – верба. А у Мурика стоял столб с фонарем, чтоб вечером не страшно было возвращаться из гостей.
Вообще-то Моне и самой случалось стоять подолгу на перекрестке. Но где еще стоять, если твой участок – вот он? Тогда родители приезжали на дачу на электричке, с рюкзаками, а Моня их в пятницу вечером встречала. Но потом появился Горбунок – так папа прозвал их бежевую машину. И родители стали приезжать в субботу утром к завтраку. Потому что на машине в субботу утром на дачу приезжать быстрее, чем в пятницу вечером.
В эту субботу они тоже приехали к завтраку и опять не привезли Горошине сказок. Привезли ей раскраски, Моне бадминтон, а Бабуле – большой альбом Серова.
Мама сказала:
– Бабуля, отдыхай, а мы займемся хозяйством.



