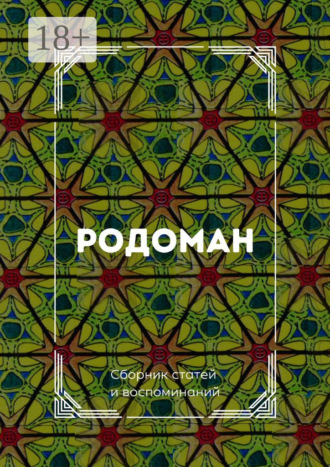
Полная версия
Родоман. Сборник статей и воспоминаний
Зона теоретически предсказана (были важны и маршруты) как места диссонанса ландшафтной основы и современного статуса территории, – не морфологически и, тем более, не конфигурационно. Ее отличает и создает положение внутри Провинции, а не пространственная удаленность. Внутренняя Периферия располагается рядом с Центром (как типом ландшафта и конкретным центром); это специфика и отличие от обычной периферии. Разгосударствление жизни, отказ от искусственного поддержания освоенности, присущая кризису концентрация населения и производства привели к депопуляции и снижению уровня освоенности. Ныне зона растет за счет периферизации «советской провинции», уже преобладая в центре и на северо-западе Европейской России. Статусно-пространственное положение зоны предопределяет ее дальнейший социально-экономический упадок. Современное состояние культурного ландшафта этой зоны противоречиво. «Одичание», снижение освоенности, разрушение материальной и социальной инфраструктуры – активная природная ренатурализация ландшафта, естественное самовосстановление лесов в ходе демутационных сукцессий на месте забрасываемых сельскохозяйственных угодий, прирост ресурсов эко/геосистемных услуг.
Обычная (Дальняя, Внешняя «просто» периферия) Периферия лежит вдалеке от освоенных территорий – Внутренняя Периферия лежит внутри освоенных территорий, внутри зон (Центр + Центральная Провинция) и Провинция. Связь зоны с обычной (классической) Провинцией – периферизованная провинция внутри (полноценной) Провинции. (Тогда Внешняя Периферия – недопровинциализированная Периферия). В отличие от природных ядер ПБ Внутренняя Периферия – никак не ядро какой-либо сети. Она пассивна и производна, вторична – в ПБ «природа», ее местоположение и функции активны и первичны. Для «черных дыр» эти аспекты не рассматриваются, как и связь с ПБ и Внутренней Периферией. Яркий пример периферизации былой Провинции между Центральной Провинцией и Провинцией – Владимиро-Суздальское ополье [7].
«Черные дыры» (не вполне артикулированный образ) в общем приурочены к природным полюсам ПБ, совпадая по местоположению, но отличаясь «по сущности» – менее освоенные / более заброшенные стыки административных регионов; экологических характеристик лишены. Близки и «медвежьи углы». Все они предельно далеки от Центра уровня страны, макрорегиона и региона – это Дальняя (Внешняя) Периферия регионов. Географические понятия полимасштабны! Собственно же Внутренняя Периферия соседствует с Центрами разных уровней и даже возникает внутри них. Будучи нередко / во многом ландшафтно и процессуально сходны, Внутренняя и Внешняя Периферия радикально различаются именно тем, что вторая никак не может возникнуть внутри Центра и Провинции; это же отличает Внутреннюю Периферию и от ядер ПБ и черных дыр.
Характерная черта Внутренней Периферии, радикально отличающая ее от природных ядер ПБ и черных дыр – наличие собственных центров (полифункциональные города). Ранее показано: крупнейшая (глобальная) Внутренняя Периферия – сама России с центром Москвы; иные примеры – экономический микрорайон Вязьмы между Московской и Смоленской Провинцией. Район Тотьмы – Внутренняя Периферия на подъеме и репровинциализации без прежней освоенности (личные наблюдения). В силу местоположения и наличия у Внутренней Периферии культурного фона, даже при «сжатии пространства» у нее больше шансов полноценного ландшафта, нежели у Дальней Периферии, особенно при насыщении заповедниками и парками разных типов.
Дадим схематически последовательность зон культурного ландшафта в смешанной терминологии: Центр – Провинция – Внутренняя Периферия – Провинция – Периферия, она же черные дыры и природные ядра. Выводы – в концепцию ПБ представление о Внутренней Периферии не вложимо, она же и природные ядра разделены иными зонами, природные ядра облегают Внешние Границы моноцентрических районов, а Внутренняя Периферия имеет осями Внутренние Границы.
СПОНТАННАЯ ЭКОНЕТИЗАЦИЯ РЕК И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. По мере утраты реками и даже железными дорогами роли комплексных осей культурного ландшафта и запустения прилегающих территорий на них началась спонтанная эконетизация, возобновление растительности и тем самым – появился шанс экологических функций. Дело дошло до превращения в Москве (!) полуразобранных железных дорог в зоны пикничной рекреации и организованного туризма; тем более на «бесхозных» узкоколейках. Отчасти тезис подтверждает и Родоман (устные обсуждения). Эта тенденция институализирована очисткой соответствующих долин и превращения их в природно-парковые зоны отдыха вместо зон гаражей, свалок и проч. – напр. «Долина реки Сетунь» в Москве. Это своего рода инверсия больших рек, обстраиваемых коттеджами и малых рек, непригодных для этого. Экзотические варианты для новых ПБ?
ВНУТРИГОРОДСКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПЕРИФЕРИЯ. Налицо и внутригородской вариант зоны с потенциалом экологических функций. В Москве это территория между ТТК (третьим транспортным кольцом) и МКАД с основными в городе зелеными массивами парков [6]. Но известная Внутренняя Периферия катастрофического Детройта, где более благоприятны его пригороды, таких функций лишена
КОНТР-ЭКОНЕТИЗАЦИЯ ЯДЕР И ГРАНИЦ В ПБ – «коричневение» зеленых ядер и осей ПБ (цвета канонического картоида ПБ) при «позеленении» бывшей коричневой зоны (Провинция, становящая Внутренней Периферией). У мест, самим положением «предназначенных» для экологических функций, ныне почти отсутствует социальный и иной контроль – варварские рубки лесов, мусорные свалки, застройка ядра Байкальской природной территории и т. д. и т. п. Увы, именно обширные природные пространства вне агломераций «притягивают» указанную деятельность. Процитируем (открытое) письмо С. В. Чебанова Родоману и мне. «Ныне наблюдаемые процессы на разных уровнях (внутренняя сторона границы РФ, границы областей, границы районов областей, границы частных землевладений, границы садов и парков) демонстрируют, что приграничные зоны, которые в ПЛ предлагается превращать в заповедники, оказываются зонами наибольшего неблагополучия поскольку они оказываются безнадзорными и используются как свалки, зона скопления бурелома, концентрации неотремонтированных участков дорог, концентрации сорняков, накопления вывозимых с полей валунов и т. д. При этом наиболее плачевное положение оказывается… в «медвежьих углах». По моим наблюдением в Подмосковье (ср. также данные группы «АНТИБОРЩЕВИК» именно в подобных местоположениях концентрируется и борщевик Сосновского, яркий наглядный симптом одичания культурного ландшафта. Административные границы (и иные рубежи) из экофильных контактных превращаются в экофобные барьерные.
НОВЫЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ЯДРА. Учитывая всё это и ряд суждений на Конференции и вокруг в схемах ПБ в широком смысле роль природно-заповедных ядер могут обрести зоны «вторичного природного ландшафта» – территории давно (порядка десятилетий) вышедшие из хозяйственной оборота и лишающиеся освоенности. Кстати, немало вначале формально-институционально, а потом и фактически заповедников именно таковы – напр. Керженский заповедник (Нижегородское Заволжье) на месте лесозаготовок и торфоразработок. Это явный пример Внутренней Периферии в нашем смысле, оказывающейся заповедным ядром в смысле ПБ Родомана. К таким новым потенциально экологическим ядрам относятся и долины рек (напр. долина Хопра [5]) и даже отчасти внутригородская / внутриагломерационная Внутренняя (Зеленая) Периферия.
Выделение и идентификации территорий как (разных) Внутренних Периферий, основано прежде всего на их местоположении и специфике современного (перспективного) культурного ландшафта, поэтому обретении ими (природно) -заповедного статуса не вызывает концептуального. В агломерации Санкт-Петербурга в оптимальном состоянии находятся ООПТ именно в черте города (видимо – внутриагломерационная периферия) в силу институциональных преимуществ, а «более природные» ООПТ вдали от города пребывают в худшем состоянии [2]. Это парадокс Григория Исаченко. Типичнейшая Внутренняя Периферия (на уровне региона и Центра России в целом, каково сейчас Владимиро-Суздальское ополье приобретает де-факто природно-заповедно-рекреационные функции для охватывающей его полукольцом конурбации Москва – Владимир – Нижний Новгород [7].
Известное прогнозное предположение Б. Б. Родомана о приобретении России ролью и статусом «мирового заповедника» осмысленно и в том случае, если считать эту территорию Глобальной Внутренней Периферией (ее центр – Москва, что принципиально), что было сделано ранее [4].
Деструкция и детериорация заповедных ядер и как таковых и в концепте ПБ может компенсироваться экологизацией Внутренней Периферии самых разных типов.
Приложение 2К итогам творческой жизни Б. Б. Родомана
(29 мая 1931, Москва – 26 декабря 2023, Москва)
Скончался выдающийся российский географ Борис Борисович Родоман. Экономико-географ по образованию, глубоко развивший сюжеты Н. Н. Баранского, он жил, работал и мыслил себя в единой географии, не вместо отдельных географий, но вместе. Родоман создал оригинальную версию теоретической географии, и реализовал её в ландшафтно-экологических проектах. Его теоретическая география концептуально выразила специфику природно-культурного ландшафта России и классической российской географии. Труды Бориса Борисовича навсегда стали её лично-теоретическим эпилогом. Родоман ясно сознавал свою научную родословную: А. Гумбольдт – И. Тюнен – В. В. Докучаев – В. П. Семенов-Тян-Шанский. Наверное, единственная единая география как целое сегодня в России – теоретическая география Родомана.
Родоман был высокий профессионал, настоящий ученый-исследователь. Доклады и тексты были обильны, книги стали классикой. Просвещенный патриот, публичный интеллектуал, он трепетно переживал судьбу ландшафта и судьбу науки о нём. Яркая, глубокая содержанием публицистика пронизана заботой о ландшафте страны – важной составляющей её судьбы.
Теоретическая фантазия, воодушевляемая экологической и этической ценностью ландшафта создала самобытные взаимосвязанные концептуальные проекты поляризованного ландшафта и глобальной экологической роли России.
Для Б. Б. Родомана главный предмет всей географии – сплошная ткань ландшафта в географической оболочке Земли; не связанные с ландшафтом явления не входят в сферу географии. Атрибуты полноценного географического исследования – карты, путешествия и районирования; иное не отрицалось.
Обыденному сознанию важны, интересны и ценны отдельные конкретные места, географическому – все места во взаимосвязи, теоретико-географическому – концептуальные схемы устройства сплошного природно-культурного ландшафта. Его рисунок сложно-закономерен, это повторяющиеся и сплетающие узоры. Данные в узорах идеальные формы ландшафта (не очертания) и есть предмет теоретической географии. Общность категориального строя позволяет видеть структурное сходство и взаимодействие разных слоев ландшафта. Специфика версии Родомана – теоретическая морфология ландшафта. Противоречие индивидуальности и универсальности как феноменов и подходов здесь мнимое. Конкретности видятся как реализации, совмещения, интерференции etc идеальных форм. В концепциях Родомана соединено районирование и теоретизирование ландшафта.
Наша труднодоступная для изучения огромная своеобразная держава, – вызов для исследователя. Теоретическая география вызов приняла. Родоман сотоварищи дал концептуальный портрет ландшафта большого целого пространства. Теоретическая география оказалась теоретической географией России, выросшей из глубочайшего личного проживания и научного освоения любимого Борисом Борисовичем (Большого) Подмосковья; он сам это ясно понимал. Родоман и жил не в географической точке – в большом крае.
Теоретическая география Родомана пропитана духом познавательных путешествий и обогащена их результатами – путешествия теоретика. В географии всегда, даже при обилии спутниковых и иных данных и способов их обработки, реалии ландшафта постижимы непременно «ногами и глазами», содержательно оснащенными. Иначе такая картина заведомо неполна. Результаты профессиональных познавательных путешествий – не субъективности, но научное экспертное знание, именно оно дает целостный образ территории. Визуально-интуитивное теоретизирование – так Родоман назвал свой метод. Соединство теоретизирования и путешествования в личностном знании и дало главные результаты Родомана – от районистики до поляризованной биосферы. Их объем очень значителен, а смысл еще будет открываться. Но особый образ творческой жизни Родомана не может быть общим примером.
Родоман говорил, мыслил и писал ясно, красиво, вразумительно. Его почерк – ярчайшие теоретические фантазии, выраставшие из конкретных (даже малых) мест, воплощенные в проработанных концептуальных схемах. Превосходен новый жанр – концептуальная лирика ландшафта. Дар теоретика и художественный вкус дали очень важное изобретение географической картографии. Синтез теоретических схем и цветных тематических карт – картоиды, карты идеальных ландшафтов. Красота и содержательная глубина картоидов сделала их подлинными произведениями искусства. Налицо три эпонимические конструкции – теоретическая география Родомана, Поляризованная биосфера Родомана, картоиды Родомана.
Истинный новатор, Родоман чтил традиции. Читая немного, но понимая глубоко, Родоман развивал классиков. Но карт он читал много; скучал по громадным настенным картам в коридорах Геофака МГУ. Заново вникнув в ландшафтное районирование и административное деление СССР, он создал и формальную районистику и свою морфологию узловых районов. Невнятную задачу «охраны природы» Родоман осознал как поиск теоретически обоснованных оптимальных форм ландшафта.
Именно потому, что Борис Борисович не раз получал карьерные травмы7, он был благодарен учителям и покровителям. Аристократизм ученого и демократизм туриста совмещались. Лидер небольшой московской группы самодеятельных походных туристов, Родоман ценил и любил свою компанию; наши походы были и путешествиями, и семинарами. Его путешествия – образ жизни, даже произведения искусства. Многим он открыл Подмосковье. Большая статья «Подмосковье, что мы потеряли» (совместно с В. Л. Каганским – работа шла и за два дня до кончины Бориса Борисовича) близка к завершению.
Уроки Родомана: ученый-географ – не когнитивный автомат, он творчески живёт в ландшафте; путешествия незаменимы; зрение переходит в умозрение; большие результаты – обычно удел больших ученых, а не коллективов; глубина охвата материала важнее объема; традиции предполагают и свободу от профессиональных гетто; высшая объективность ученого достигается и усилием всей личности; свой путь в науке – огромный риск и ответственность.
Родоман ценил работы А. Г. Исаченко, Е. Е. Лейзеровича, А. Е. Осетрова, А. Н. Ракитникова; всех не перечислить. Плодотворно было влияние Родомана на его поколение – А. Д. Арманд, Ю. А. Веденин, Е. Е. Лейзерович, Л. В. Смирнягин. Подход, результаты, личность Родомана обогатили труды и следующих поколений – Т. И. Герасименко, Д. Н. Замятин, В. Л. Каганский, М. И. Карпель, В. Кицес, М. П. Крылов, А. Е. Левинтов, Т. Г. Нефедова, С. А. Тархов, А. И. Трейвиш, Е. А. Шварц, В. Е. Шувалов, В. А. Шупер, В. П. Чижова, Б. М. Эккель и немало других; это факты, а не оценки. Родоман верно служил географии и достойно её представлял в междисциплинарных контактах – архитектура, методология науки, теоретическая биология, теория классификации etc; был любим и признан.
Его высоко ценили С. Г. Кордонский, А. Г. Раппапорт, С. В. Чебанов, Т. Шанин, Ю. А. Шрейдер, что было взаимно. Разрыв ветвей географии, отвратительные распри на 21-м этаже Главного здания МГУ для Родоман были трагичными, исчезала сердцевина географии. Родоман мечтал о сплошности и единстве и географии, и её предмета, культурного ландшафта. Отсутствие единства было для него болезненно, хотя и не случайно.
Фундаментальное знание в форме концепций на основе базовых категорий, к тому же ярко проиллюстрированное (ярко буквально, цветными картоидами) очень прочно, потому у трудов Родомана может быть долгая жизнь, – стал же Тюнен актуален через век.
Родоман был человек цельный. Он жил в ландшафте и в мире науки и любил их, нераздельно и неслиянно. Реакции на Родомана обычно были остры и различны до полярности. Велико было обаяние интеллекта. Нескрываемая индивидуальность, особость облика, манер, образа жизни и мысли создавали ему трудности. Награда была дана ещё в этом мире – сплошная творческая свежесть и продуктивность с юных лет до самой кончины.
Список литературы
1. Исаченко Г. А., Исаченко Т. Е. Роль особо охраняемых природных территорий в формировании культурных ландшафтов Санкт-Петербурга // Наследие и современность. 2020;3 (4):34—51.
2. Каганский Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: НЛО. -2001.
3. Каганский В. Л. Внутренняя периферия: новая растущая зона культурного ландшафта России // Изв. РАН., сер. Географ., 2012, N 6, с. 23 – 33.
4. Каганский В. Л. Средний Хопёр // Отечественные записки. 2006, №6, С. 195—206.
5. Каганский В. Л. Эксклюзив о московском «Бублике» от теоретика-географа // «Семь искусств», №4 (97), апрель 2018. https://7i.7iskusstv.com/2018-nomer4-kagansky/.
6. Каганский В. Л. Забытые сердца России (азональные ареалы в историко-культурном ландшафте Европейской России) // Историческая география / Отв. ред. И. Г. Коновалова. Москва: Аквилон, 2021. Т. 5 (в печати).
7. Нефедова Т. Г. Сельская Россия на перепутье. М.: Новое издательство, 2003. – 403 С.
8. Родоман Б. Б. Экспрессный транспорт, расселение и охрана природы // Методы изучения расселения. – М.: ИГАН, 1987, с. 44 – 54.
А. Е. Левинтов.
Всю жизнь опережая жизнь (к 80-летию Бориса Родомана)
независимый исследователь, г. Москваalevintov44@gmail.comОтмечая несомненные заслуги Бориса Борисовича Родомана перед наукой, можно перечислить многочисленные публикации и регалии юбиляра, я бы предпочёл дать своё понимание научного вклада своего коллеги и учителя.
Большинство ученых географов озабочены злобой дня и сегодняшними проблемами. По-видимому, это имеет некоторый смысл в эпоху жажды быстрых и скорейших результатов, внедрения научных исследований в и без того опостылевшую практику; во всяком случае, это считается мейнстримом науки, если не задумываться об истоках мейнстрима: а, собственно, с чего, где и когда он начинается?
Есть, однако, небольшая группа ученых не от мира сего дня, не озабоченных и неозадаченных происходящим вокруг и окрест них, сосредоточенных на собственной имманентности и прислушивающихся к миру, только если наличествует в этом мире отзвук на их внутреннее состояние. Эти ничего не изучают во внешнем мире, но познают свой внутренний мир в нем. В этой малой группе совсем крошечную часть составляют те, кто, волей или неволей, сознательно или интуитивно, но определяют будущее науки и являются таким образом ключами, с которых и начинаются все мейнстримы и которыми открываются двери предстоящих перспектив. Величие этих малых величин заключается именно в том, что они и есть источники будущего.
Среди них уже более полувека маячит сутулая фигура Бориса Борисовича Родомана, проживающего жизнь, опережая жизнь.
Ландшафтное единство
Еще будучи студентом, он восстал против разделения географии на физическую и экономическую, а, следовательно, посягнул на святая святых марксистко-ленинской научно-философской методологии, утверждавшей тогда (позже пришлось это проглотить и не вспоминать), что законы природы протекают м-е-д-л-е-н-н-о-м-е-д-л-е-н-н-о, а общественные законы – быстро-быстро (вообще-то, как потом выяснилось, законы напрочь лишены текучести), а потому общество не зависит от природы и даже может «не ждать милостей от природы, а взять их – наша задача».
В те времена (середина 50-х) процветала идеология ПТК и ТПК [Колосовский 1947, Колосовский 1958, Колосовский 1969], критерием существования которых является «достижение максимального народнохозяйственного эффекта при минимальных затратах», то есть грабежа природных, интеллектуальных, культурных и трудовых ресурсов.
Студент Родоман ничего этого не понял, пафоса созидательного ограбления не принял, но, по счастью, отчислен не был, несмотря на многочисленные академические задолженности, и даже смог получить диплом. Смотрелись его воззрения и взгляды малопонятным, но безобидным чудачеством, хотя дальновидные Н. Н. Баранский и Ю. Г. Саушкин поняли: возможно, за ним будущее. Его защитники и покровители потом, в первой половине 60-х, встали в кипучем споре географических детерминистов и индетерминистов (знаменитая защита докторской диссертации В. А. Анучина, основные положения которой изложены в работах (Анучин 1969, Анучин 1972) на сторону первых. Победив и формально и по содержанию, детерминисты по сути открыли для географии новый мейнстрим, а именно – экологический. Настолько, что на Всемирном географическом конгрессе в Москве летом 1972 года официально было объявлено, что экология – столбовая дорога всей будущей географии.
Теоретическая/математическая география
В те же 50-е годы на Западе начала бурно развиваться теоретическая, конструктивная и математическая география (Бунге 1967, Hӓgerstrand 1953, позже Изард 1967, Хаггет, Чорли 1967, Хаггет, Чорли 1969, Хаггет 1972 и др.) (всё это считалось одним и тем же, по крайней мере, у нас). Сами мы долгое время никак не могли пройти дальше дробей и пропорций, а также таблицы умножения под названием «транспортная задача» – перемножение веса грузов на расстояния их перемещения, однако утешали себя тем, что на Западе, в условиях хаоса рыночной экономики, невозможно планировать, а у нас – всё закономерно, планомерно и пропорционально, к тому же западные ученые лишены такого отличного и надежного средства, как марксистко-ленинская научно-философская методология, а потому вынуждены изощряться в методах, а вот теоретические и фундаментальные исследования – наша грядка, на которой, кроме нас, – никого.
Б. Б. Родоману повезло дважды: во-первых, он проходил в школе логику (вскоре ее, вместе с психологией, как подозреваемых в буржуазности, в школе отменили), а, во-вторых, он ее понял и стал применять и употреблять в географии. И при этом настолько успешно, что, с одной стороны, не сел за протаскивание в советскую географическую школу чуждых ей веяний загнивающего капитализма, а, с другой, даже ведшего в 1967—68 годах летнюю школу «Математика в географии» (так в августе 1968 года в Сваляве автор и познакомился с Б. Б. Родоманом).
В кильватере западной конструктивной географии и работ Б. Б. Родомана по логизированию и абстрагированию в географии начались бурные и весьма изощрённые математические модели и расчеты, призванные оптимизировать, максимизировать, минимизировать и повышать экономическую эффективность – в условиях отсутствия экономики как таковой (советский способ управления к экономике относился в редких случаях и использовал ее либо в подручных целях, либо в декоративных; так, например, географам и экономистам так и не удалось обосновать экономическую целесообразность строительства БАМа и большинства других великих строек коммунизма просто в силу внеэкономичности этих проектов) и в ущерб другим, не менее важным эффективностям и эффектам: социальным, демографическим, культурным, экологическим и т. д.
Картоиды как абстрактная эстетизация ландшафта
А Родоман пошел дальше (Родоман 1999, Родоман 2007).
Это кажется маловероятным, особенно у нас, но «красота спасет мир» – и Родоман создает новый картографический жанр, картоиды, которые призваны не заполнять пространства и, следовательно, не заниматься членением территории по морфологическим признакам, а рассматривать пространство структурно, в абстрактных гармониях, стало быть, скорее зонируя, чем районируя.
Возник тот самый случай, который описан Г. Галилеем: «Если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов». Картоиды Родомана – отражения не действительности, а эстетических установок автора картоидов. На сегодня их набралось уже несколько десятков, если не сотен.
Эстетизация ландшафта, предпринятая Родоманом, не имеет ничего общего с эстетикой и романтизацией географической профессии, процветавшими в еще незавершившийся послевоенный период: ни о каких песнях, кострах, трудностях и прочем ур-дур-патриотизме речи не идет. Более того, уверен, что эстетизация ландшафта (а не деятельности), выражаемая в картоидах, сознательно противопоставлялась Родоманом толпотворению. Картоиды Родомана – акмеистика в чистом виде.
Вполне возможно, они, картоиды, когда-нибудь лягут в подоснову ландшафтного проектирования, но пока можно лишь утверждать: эстетические и ценностные основания теософа Д. Л. Арманда (Арманд 1964, Арманд 1975) и особенно А. Д. Арманда, ориентированного на дзен-буддизм (Арманд 1983, Арманд 2008) с его эстетикой опрокидывания на нашу грешную небесных гармоний «ин-янь» возникли во-многом благодаря абстрактному эстетизму картоидов Родомана.

