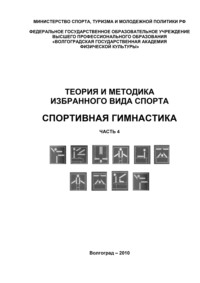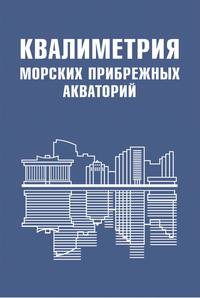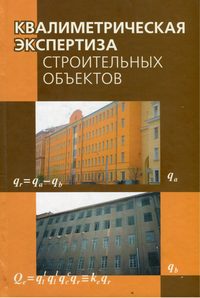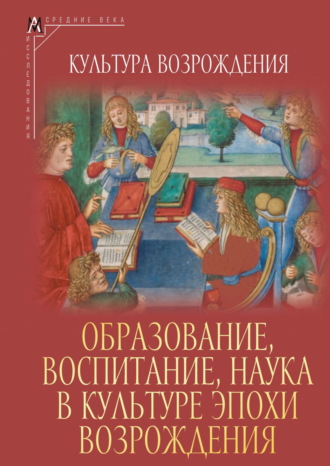
Полная версия
Образование, воспитание, наука в культуре эпохи Возрождения
В XVI в. тема поведения детей продолжена Эразмом, написавшим трактат «О приличии детских нравов» (1530)[88]. Эразм читал трактат Веджо, оказавший на него сильное влияние, но полагал, что автор его – Филельфо, однако на итальянских гуманистов Эразм не ссылается. Трактат «Приличие (учтивость) детских нравов» написан для Генриха Бургундского, сына герцога Адольфа Вернанского. Но Эразм адресует его всем детям: он пишет Генриху не потому, что тот нуждается в его наставлениях, но «чтобы младые дети тем охотнее изучали сии правила, что они посвящены преукрашенному счастьем и преисполненному доброй надежды детищу. Понеже сие непосредственное всему юношеству будет побуждением, когда они увидят, что и самих героев дети посвящают себя наукам и вместе с оным текут на одном поприще»[89]. Мысль издать труд для всего юношества Эразм повторит и в конце введения к работе: «если прилично, чтобы всякий человек был хорошо расположен духом, телом, поступками, одеждою, то наипаче нужно детям наблюдать всякую благопристойность и особенно из них благородным»[90]. А благородными Эразм считает «всех тех, которые ум свой просвещают свободными науками. Пусть иные на гербах своих изображали Львов, Орлов, Быков и Леопардов, однако те более имеют истинного благородства, которые вместо оных столько могут иметь у себя знаков, сколько переучили свободных наук»[91].
Тем, кто происходит от благородных родителей, стыдно не соответствовать нравами своему роду, – Эразм здесь следует традиционному мнению о связи благородства рода и морального достоинства, ему присущего. Но в конце работы он высказывает вполне гуманистический взгляд: «А те, кому счастье (фортуна) определила быть простолюдинами (plebei), в низком состоянии или крестьянами (agrestes), тем более стараться должны, чтобы то, чего им не дало счастье, вознаградить изящностью нравов»[92]. «Родителей или отечество никто себе выбрать не может, а разум и хорошие нравы всякий в состоянии приобрести»[93]. У Эразма и вообще у гуманистов XVI в. социальные мотивы, по сравнению с гуманистами XV в., звучат более сильно, они внимательнее присматриваются к социальной ситуации в обществе. Но учитывая неравенство в социальном положении, Эразм дает одинаковые для всех детей рекомендации по воспитанию благопристойного поведения.
Трактаты Веджо и Эразма отделяют свыше 80 лет, что, несомненно, сказывается на их содержании. Гуманизм XV в. еще не освободился от зависимости от древних авторитетов, и Веджо это убедительно демонстрирует: его трактат переполнен ссылками и примерами из античных и раннехристианских авторов, и среди этого изобилия тонкой ниточкой вьется мысль самого гуманиста. Практически он не рассчитан на детское восприятие, хотя Веджо и пытается оживить образами свои конкретные рекомендации. У Эразма все иначе. Его сочинение содержит минимум ссылок на античных и раннехристианских авторов, оно написано ясным и доступным для ребенка языком, наполнен образами, сравнениями и оборотами, понятными для детей. Порой Эразм обращается к живописи (испанским картинам).
В трактатах обоих гуманистов ощущается влияние физиогномики, приписываемой Аристотелю и очень популярной в гуманизме, но ссылок на нее в работах Веджо и Эразма нет. Гуманисты ссылаются и на природу: Веджо говорит, что движение должно быть естественным, пусть природа формирует движение. Эразм: «Что само по природе пристойно, то не может не почесться у всех таковым же». Эразм называет еще и обычаи страны: «Но не у всех равное счастье или достоинство, и не у всех народов почитается одно и то же приличным, так что надо сообразовываться с обычаем, со страной и со временем, которому повиноваться разумные люди повелевают»[94]. Это касается прежде всего одежды – «тела нашего тела», через которую можно узнать расположение души. Но не только. Но и в старинных картинах можно в лицах и глазах видеть расположение души.
Какие же вопросы обсуждают в своих работах гуманисты? Поведение у Веджо неразрывно связано с нравственностью, являясь как бы ее продолжением. Пятая книга, посвященная ему, названа De castitate seu pudicitia. Castitas – нравственная чистота, целомудрие, puducitia – стыдливость, целомудрие, скромность. А потом еще вводится термин verecundia – робость, стыдливость, застенчивость, почтительное отношение, уважение. В 1-й главе пятой книги трактата говорится о чистоте и целомудрии подростков. Во 2-й – о крайне необходимой сдержанности языка для подростков, в 3-й – о том, что должно управлять походкой и жестами, в 4-й – об одежде (плаще), использовании зеркала и благовоний и в какие платья следует облачаться. В шестой книге тема частично продолжена, поскольку в 1-й главе обсуждаются вопросы «о том, что следует избегать многословия и обжорства» и во 2‑й – «насколько должно соблюдать уважение в священных местах». Однако пятой и шестой книгам о пристойном поведении предшествует четвертая книга об отношении к людям – родителям, родственникам, наставникам, товарищам с ясно звучащими там идеями морального воспитания, которые усиливали нравственные мотивы в последующих пятой и шестой книгах трактата.
У Эразма в семи главах трактата, дающего советы и рекомендации по приличному поведению, ясно определен круг вопросов. Они рассматриваются в главах 1. О теле; 2. Об одежде; 3. Об обычаях в церкви; 4. О пирах; 5. О собраниях; 6. Об игре; 7. О спальне (две последние главы очень небольшие по размеру). Самые большие – 1, 4 и 5.
На что ориентируют подростка гуманисты? Веджо пишет: «Все, что делают юноши, они должны делать так, чтобы не было никакого неодобрения (порицания), чтобы это ничей авторитет (nomen) не уменьшало, ничьего права не оскорбляло, не наносило никому ущерба, особенно же они должны соблюдать чистоту тела и любить целомудрие»[95]. Связь нравственных и социальных задач очевидна, как и ориентация на внешнее одобрение. «Пусть юноши хранят незапятнанными и нерушимыми чистоту, ничего нет для этого возраста более достойного и ценного, ничего, что принесет большую похвалу, любовь людей, ничего, что ближе к verecundia и более связано с pudicitia»[96]. И далее идут примеры из античной литературы и Библии, свидетельствующие о высокой оценке этих качеств.
У Эразма внешнее одобрение тоже важно. Хотя знание обхождения Эразм не считает «обширнейшей частью философии», он уверен, что оно «весьма много способствует к снисканию у других любви и к открытию пред очами людей превосходных души своей талантов»[97]. Ориентация на внешнее одобрение, как видим, соединена у Эразма с признанием богатства личности ребенка.
Поскольку поведение детей у Веджо неразрывно связано с нравственностью, первая глава и посвящена чистоте и целомудрию подростков. А далее описывается проявление душевных качеств в языке, жестах, глазах, походке. Веджо пишет о том, как должен держать себя ребенок сообразно принципам нравственности. И далее говорит о языке. Речь должна быть целомудренной: нельзя употреблять непристойных слов, ибо дурные разговоры развращают добрые нравы, как сказал ап. Павел. В бесстыдстве речи обнаруживается жизнь человека – она как бы демонстрирует дурной образ его мыслей. Особенно юноши должны удерживаться от ругани, постыдных и бранных слов, которые обличают рабскую душу по словам Аркесилая[98].
Неприятна привычка говорить резко и грубо, и, напротив, говорить легко, приветливо, культурно очень способствует любви людей. Но не подобает пользоваться шутками более игривыми (распущенными), чем допускает честь.
Надо избегать говорить опрометчиво и необдуманно, следует наложить скрепы на язык, чтобы сдерживать его беспечность. Стена зубов и губ, словно от природы созданная охрана, противостоит разнузданной речи. Мы должны говорить то, что знаем наверняка, или тогда, когда не позволяет промолчать наше достоинство (Исократ). Глупец, промолчав, посчитается мудрым. Когда Солона, который молчал среди наперебой говорящих, спросили, почему он молчит, из‑за недостатка слов или по глупости, он ответил, что никакой глупец молчать не может[99].
Веджо против болтливости: говорить надо, когда потребует дело, время и место. Далее следует целый ряд наставлений: не лгать, что свойственно врагам, не выбалтывать тайн, не злословить, не нашептывать, не быть двуличным. Язык – наше и благо и зло одновременно (Анахарсис), поэтому главное наставление Веджо – научиться его сдерживать, и тогда прослывешь добрым и мудрым и жизнь будет более радостной и спокойной.
У Эразма учтивое обхождение понимается как более независимое и составляет часть воспитания, третью часть «предмета детского наставления» вкупе с благочестием и изучением свободных наук. И начинает Эразм не с языка, а с лица, которое он, в отличие от Веджо, ставит на первый план, рассматривая пристойный вид всех его частей – глаз, бровей, носа, щек, губ, зубов, лица в целом. Взгляд должен быть спокойный, целомудренный, благочинный, демонстрировать кроткий и дружественный дух, а не угрюмый, что бывает признаком свирепости. Взгляд не должен быть неистовым, что бывает доказательством бесстыдства. Нельзя выпучивать глаза, что есть дело безумных, и смотреть с прищуром, что свидетельствует о непостоянстве. «Непристойно прищуривши один глаз смотреть на кого-либо, ибо что сие означает, как не самого себя делать кривым? Таковой поступок уступим мы одноглазым и кузнецам». Брови должны быть «по челу распростерты», не сведены одна с другой, что есть знак угрюмости; не приподняты вверх, что означает гордость; не нависшие над глазами, что есть дело злоумышленников. «Чело должно быть веселое, живое, изображающее мысль саму себя сознающую, и рассудок свободный; не сморщенное, как у стариков, не движущееся, как у ежей, не угрюмое, как у быков». И далее Эразм подробно описывает, как следует чихать, сморкаться (не в шапку или платье), смеяться, кашлять («ежели будет тебя мучить кашель, то берегись, чтобы другому не накашлять в рот»), соблюдать чистоту в зубах, в голове, причесывать волосы[100]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Guidi G. Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento. Gli istituti “Di Dentro”, che componevano il governo di Firenze nel 1415. Firenze, 1980. T. II. P. 67.
2
Ventrone P. La festa di San Giovanni: costruzione di un’ identità civica fra rituale e spettacolo // Annali di storia di Firenze. Firenze, 2007. Vol. II. Р. 49.
3
Палио – древний обряд состязания, чаще всего в виде конных ристаний, в котором победитель награждался пышным и тяжелым шелковым полотнищем.
4
Статуты соответственно Подеста и Капитана народа, отредактированные в 1321–1325 гг., приведены в следующем издании: Statuti della Republica fiorentina / A cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi. Firenze, 1999. P. 5–7.
5
Ventrone Р. La festa di San Giovanni. Р. 51.
6
Dati G. Istoria di Firenze di Goro Dati dall’anno 1380 all’ anno 1405. 120 / A cura di L. Pratesi. Norcia, 1904. Р. 91.
7
Dati G. Istoria di Firenze. 117. P. 90.
8
Diario di anonimo fiorentino (1382–1410) // Alle bocche della piazza / A cura di A. Molho e F. Sznura. Firenze, 1986. P. 54–56, 61–62, 79–80, 135–139. Этот же аноним описывал турниры, продолжающиеся по десять дней подряд.
9
Dati G. Istoria di Firenze. 130–131. Р. 95.
10
Trexler R. C. Public Life in Renaissance Florence. N. Y., L., 1980. P. 215–220. Трекслер, ссылаясь на Чезаре Гвасти, описывал регистр из архива Флоренции, в котором устанавливалось, что помимо палио и воска граф Уберто ди Маремма послал в подношение оленя, покрытого бархатом, а люди из Бастии поднесли четырех ястребов и борзую собаку.
11
Dati G. Istoria di Firenze. 128. Р. 94.
12
«И в последнюю очередь делали свое подношение 12 заключенных, которые по милости были выведены из карцера, дабы почтить святого, каковые были людьми нищими и помещенными туда по тяжким провинностям» (Ibid. 128. Р. 94).
13
Palmieri Matteo di Marco. Historia florentina (1429–1474) / A cura di G. Scaramella // Rerum Italicarum Scriptores. Città di Castello, 1906. Vol. XXVI. P. 172–174.
14
Luzzatti M. Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato. Torino, 1986; Della Berardenga C. U. Gli Acciaiuoli di Firenze nel luce dei loro tempi. Firenze, 1961. P. 412.
15
Diario d’ anonimo fiorentino dall’ anno 1358 al 1389 // Cronache dei secoli XIII e XIV. Firenze, 1876. Р. 354.
16
Stefani M. Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani. Rubr. 757 / A cura di N. Rodolico // Rerum Italicarum Scriptores. Città di Castello, 1903–1913. P. 295–296.
17
Сronicchetta d’incerto // Cronicchette antiche di vari scrittori del buon secolo della lingua toscana. Firenze, 1733. P. 210–211.
18
Stefani M. Cronaca fiorentina. Rubr. 757. P. 295–296; Сronicchetta d’incerto. Р. 210–211.
19
Cronicchetta d' incerto. P. 212–213.
20
Diario d’ anonimo fiorentino dall’ anno 1358 al 1389. Р. 322.
21
Ibid. Р. 325.
22
Diario d’ anonimo fiorentino dall’ anno 1358 al 1389.
23
Stefani М. Сronaca fiorentina. Rubr. 753. Р. 293–294; Diario d’ anonimo fiorentino dall’ anno 1358 al 1389. Р. 325.
24
История Г. Дати была написана более чем на 20 лет раньше «Истории Флорентийского народа» (1429–1433) Леонардо Бруни Аретино.
25
Dati G. Istoria di Firenze. 1. P. 11.
26
Ibid. В прологе к истории Дати указывал поучение молодых как главную цель: «Ради того, чтобы получили большее удовольствие умы слушателей, а также потому, что это – вещь более достойная памяти, чем какая-либо другая из того великого времени, полного войн и полезных примеров для тех, кто придет, потому что в нем удивительно видна назидающая фортуна».
27
Dati G. Istoria di Firenze. 35. Р. 37.
28
Ibid. 45. Р. 42. Он утверждал, что в целом на войну флорентийцы затратили 3 млн 200 тыс. флоринов (Ibid. 44. Р. 42).
29
Ibid. 70. Р. 60.
30
Villani F. Vite d’ illustri fiorentini // Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. Firenze, 1858.
31
La vita di messer Philippo Scholari di autore anonimo. Volgarizzata di Piero della Stufa // Archivio storico italiano. 1843. Vol. IV. P. 151–163; Jacopo di Poggio Bracciolini. La vita di messer Philippo Scholari / Volgarizzata di B. Fortini // Archivio storico italiano. 1843. Vol. IV. P. 183–165.
32
Luca della Robbia. Vita di messer di Bartolommeo di Taldo di Valore Rustichelli // Archivio storico italiano. 1843. P. 239–285.
33
Bisticci V. Commentario della vita di messer Bartolomeo di Fortini // Archivio Storico Italiano. 1843. Vol. IV. P. 375–376; Bisticci V. Commentario della vita di messer Piero de Pazzi // Ibid. P. 364–365; Vita di Donato Acciaiuoli // Bisticci V. Vite degli uomini illustri del secolo XV. Firenze, 1859.
34
Acciaioli D. Memorie di sua familia. Riccardiana. Cod. In 4. 2071.
35
Heers J. Consorterie familiari alla fine del Medioevo // La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento. Bologna, 1979. P. 301.
36
Jones Ph. Comuni e Signorie: la città-stato nell’ Italia del tardo medioevo // La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento. P. 111.
37
Kent D. The Rise of the Medici. Faction in Florence 1426–1434. Oxford, 1978. P. 51–101.
38
Zorzi A. Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale // Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Age (Actes du colloque international organisé par l’École française de Rome, l’Université d’Avignon et des Pays-de-Vaucluse, l’Università degli studi di Firenze et l’Institut universitaire de France), Avignon, 29 novembre – 1 décembre 2001 / А cura di J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi. Roma, 2001.
39
Подробно об этом см.: Kuehn T. Emancipation in Late Medieval Florence. New Brunswick, 1982. P. 3.
40
Segre C. Bono Giamboni e la cultura fiorentina del Duecento // Giamboni B. Il libro de’ vizî e delle virtudi e il trattato di virtù e di vizi / Ed. C. Segre. Torino, 1968. Р. XIII–XIV. Флорентиец Боно Джамбони более всего известен своими переводами многих произведений с латыни и французского на народный язык. Он, видимо, имел юридическое образование, исполнял должности судьи при Подеста и другие с 1261 по 1292 г. девять раз.
41
Giamboni B. Il trattato di virtù e di vizi. P. 135.
42
«Синьоры, того, что сделано, нельзя вернуть назад, но следует подумать о том, как умалить оскорбление достойной вендеттой, находя утешение в надежде на ваш совет и вашу помощь… От этого дела, как я думаю, прибудет удовлетворение и для вас, поскольку оно сделает честь всем моим друзьям и родственникам» (Ceffi F. Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi /A cura di L. Biondi. Torino, 1825. P. 73–74).
43
Paolo da Certaldo. Il libro di buoni costume (Documento di vita trecentesca fiorentina) / A cura di A. Schiaffini. Firenze, 1945.
44
Термин введен в оборот современной итальянской исследовательницей Леонидой Пандимильо и признан большинством специалистов. См.: Pandimiglio L. Quindici anni con I libri di famiglia / Cicchetti A., Mordenti R. I libri di famiglia in Italia. Geografia e storia. Roma, 2001. Vol. II. Р. 115–129. См. также: Cazalé Bérard C., Klapisch-Zuber C. Mémoire de soi et des autres dans les livres de famille italiens // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2004. № 4.
45
Традиция ведения семейных книг началась со второй половины XIII в., но они мало чем отличались от хозяйственных книг и тетрадей См: Nuovi testi fiorentini del Dugento. Introduzione, trattazione, linguista e glossario / A cura di A. Castellani. Firenze, 1952. T. I. Большинство исследователей полагают, что раньше всего этот жанр сложился в Тоскане, а в ней приоритет отдается семейным записям флорентийцев: Cicchetti A., Mordenti R. La scrittura dei libri di famiglia // Letteratura italiana / A cura di A. Asor Rosa. Vol. III. Le forme del testo. T. II. La prosa. Torino, 1984. P. 1117–1159, но в настоящее время доказано, что этот жанр не был чисто тосканским явлением. См.: Bartoli Langeli A. La scrittura del italiano. Bologna, 2000; Cazalé Bérard C., Klapisch-Zuber C. Mémoire de soi et des autres dans les livres de famille italiens. Р. 815.
46
Cazalé Bérard C., Klapisch-Zuber C. Mémoire de soi et des autres dans les livres de famille italiens. Р. 819. В пример можно привести наиболее раннюю семейную книгу фамилии Антеллези, в которой записи умершего в 1314 г. Гвидо дель Антелла продолжал его сын. После 10 чистых листов и 47 лет перерыва начались воспоминания Филиппо дель Антелла (1375–1399), за которыми последовали записи его сына Америго (1400–1405), то есть трудились представители четырех поколений (Ibid. Р. 821). См.: Castellani A. Ricordanze di Guido Filippi dell’ Antella con aggiunte di un suo figliolo fino al 1328 // Nuovi testi fiorentini del Dugento. Firenze, 1952. T. II. P. 804–813.
47
См.: Mordenti R. Les livres de famille en Italie // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2004. № 4. Р. 795–796. Этот автор отмечал зачастую намеренные искажения записей – «вторжение в прошлое» и «неправдивость» авторских комментариев.
48
Strozzi L. Le vite degli uomini illustri della casa Strozzi. Сon un ragionamento inedito di F. Zeffi. Firenze, 1892. P. 9–12. Лоренцо Строцци, составивший в 40‑е гг. XVI в. биографии выдающихся представителей рода, утверждал, что истоки семьи уходят во времена этрусков, а ее прародители выходили из Аркадии.
49
Mordenti R. Les livres de famille en Italie. Р. 799–800.
50
Термин итальянской исследовательницы семейных книг Э. Ираче; см.: Irace E. Dai ricordi ai memoriali: I libri di famiglia in Umbria tra medioevo ed età moderna // I libri di famiglia in Italia. Geografia e storia. Roma, 2001. Vol. II. P. 150. К таковым относят «Домашнюю хронику» Донато Веллути, «Воспоминания» Джованни Морелли, «Хронику» Бонаккорсо Питти.
51
Dominici G. Regola del governo di cura familiari / A cura di D. Salvi. Firenze, 1860. P. 179.
52
Donato Velluti. La cronica domestica scritta tra il 1376 e il 1370 / A cura di I. Del Lungo e C. Volpi. Firenze, 1914. P. 182–183.
53
Питти Б. Хроника / Пер. с итал. З. В. Гуковской. Л., 1972. С. 51–56, 64–70, 74–75, 84–90.
54
Dati G. Il libro segreto / A cura di C. Gargiolli. Bologna, 1869. P. 71–72, 111–113. О том же см.: Luca da Panzano di Firidolfi. Ricordanze / Сarnesecchi C. Un fiorentino del secolo XVe le sue ricordanze domestiche. Frammenti della cronaca di messer Luca di Totto da Panzano dei Firidolfi // Archivio storico italiano. Firenze, 1889. T. IV. P. 154–155.
55
Dati G. Il libro segreto. P. 72–73. Основная заповедь этого купца: «Не выказывайте ненасытного аппетита».
56
Da Certaldo P. Il libro di buoni costumi. 323, 332. P. 189, 201–209.
57
Ibid. Р. 202–203.
58
Morelli G. Ricordi. P. 353.
59
Velluti D. La cronica domestica. P. 14.
60
Velluti D. La cronica domestica. P. 190. Синдик – пожизненный советник-эксперт коммуны.
61
Da Certaldo P. Il libro di buoni costumi. 119. Р. 102–103.
62
Ibid.
63
Dominici. G. Regola. P. 174.
64
Velluti D. La cronica domestica. P. 63–69, 77–79, 128–129.
65
Ibid. P. 65, 70.
66
Capponi G. Ricordi // Miscellanea di studi offerta a Antonio Balduino e Bianca Bianchi. Presso di seminario di filologia moderna dell’ università. Padova, 1962. P. 35.
67
Rucellai G. Il Zibaldone // Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone / А cura di A. Perosa. L., 1960. P. 343. Подобные настроения высказывали современники автора, в частности Леон Баттиста Альберти. Вышеприведенный фрагмент касается той части труда Ручеллаи, которая была написана под сильным влиянием трактата Маттео Пальмиери «О гражданской жизни». См: Краснова И. А. Ручеллаи // Культура Возрождения. Энциклопедия. М., 2011. Т. 2. Кн. 2. С. 98–99.