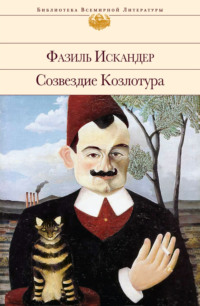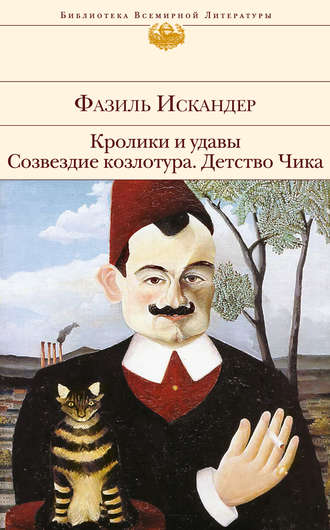
Полная версия
Кролики и удавы. Созвездие Козлотура. Детство Чика (сборник)
За внешней забавностью и искандеровскими «шуточками» таится глубокая, трагическая мысль. И даже тогда интонация Искандера сохраняется. Так, в рассказе «Летним днем» действие происходит в одном из приморских кафе, и повествователь, беседующий с немцем из ФРГ, «боковым» слухом слышит умопомрачительно смешную беседу местного пенсионера («чесучового») с курортницей о литературе – беседу, достойную саму по себе отдельной новеллы.
Немец рассказывает историю о том, как его вербовали в гестапо. Речь немца (рассказ в рассказе, излюбленная искандеровская композиция) постоянно перебивается ручейком диалога пенсионера с курортницей, и рассказ – по контрасту – обретает неожиданную объемность. «В наших условиях, – говорит рассказчик, – условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно». Человеческая порядочность – единственное, что помогает выстоять и в конце концов даже победить в условиях тоталитарного режима, в окружении «ловцов душ».
В этом рассказе разговор о нравственности человека, о том, предоставлен ли ему выбор и каков этот выбор, о моральной стойкости и внутренней независимости ведется открыто. Но этот рассказ высвечивает собою и другое, казавшееся по первому чтению столь непритязательно-забавным: в каждом из них Искандер отстаивает опорные ценности человеческого поведения: порядочность, мужество, стойкость, способность к милосердию и состраданию, стремление прийти на помощь к ближнему своему. За «болтовней», за «поговорим просто так», за игрой ума (скажем, за историей о поступлении молодого повествователя-медалиста в библиотечный институт) скрывается полная боли и драматизма мысль об оскорблении личности «разнарядкой», например.
Рассказы, повести, роман Искандера образуют несомненное единство. Повествование от первого лица сменяется объективным повествованием, однако и топография, и детали, и герои детства остаются теми же самыми: мухусский дворик, чегемский дом. Маленькая «вселенная» Искандера практически неисчерпаема, ибо история каждого и каждой семьи уходит в глубь времени, и там у каждого есть своя драма; с другой стороны, подрастают дети, а детские взаимоотношения, их открытия тоже бесконечны. Искандер продолжает разрабатывать свой мир, над которым, как мы помним, еще в начале его пути засверкало неведомое ранее созвездие козлотура.
Да, мир Искандера растет и ширится, и каждый второстепенный герой в конце концов обретает свою судьбу, свою историю. И в этой особенности прозы Искандера, казалось бы, чисто формальной, заложен высокий смысл – право личности на свою судьбу. Жизнь – и ее создатель, демиург, роль которого в данном случае исполняет Искандер, – дает личности высокое право на самоопределение, а там уж посмотрим, кто как этим правом распорядится… Собаколов выбрал свой путь – ловить собак, а, скажем, независимый и свободолюбивый, острый на язык Колчерукий – свой. Герои наделены равными возможностями человеческого осуществления – или неосуществления. Так светло, как прожил свою жизнь несчастный сумасшедший дядюшка Чика, Богатый Портной, озабоченный прежде всего материальными проблемами, прожить не сможет.
Что «хорошо», а что «плохо» в поведении человека, что нравственно, а что нет, определяет торжествующая в рассказах народная этика. Герой рассказа «Запретный плод» доносит родителям на родную сестру, которая, оказывается, в нарушение мусульманского запрета съела кусочек свиного сала. Ошеломленный тем, что его героический порыв не понят, юный доносчик потрясен выражением брезгливой ненависти, появившейся на лице отца. Но урок не прошел даром. «Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство – это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась».
Возникает вопрос: не повторяется ли Искандер в своих рассказах? «Опять про Чика» – я сама не раз слышала такие раздраженные постоянством привязанности автора к своему герою мнения «профессионалов». Должна сразу признаться, что не разделяю этих опасений и этого раздражения. Хотя не однажды, а несколько раз писатель осуществлял попытку вырваться за пределы своего опыта, своей манеры. В повести «Морской скорпион», написанной в традициях сюжетной беллетристики, например.
Рассказы Искандера «Чегемская Кармен», «Бармен Адгур» показали новый поворот его творчества. Герои этих рассказов – тоже бывшие чегемцы, молодые обитатели Мухуса. Однако сколь изменились и сами мухусцы, и жизнь в городе! Прежняя родовая сплоченность, взаимопомощь сменились порочной спайкой уголовного мира с местной властью. Патриархальность вытеснена пропитавшей общество мафиозностью, в которой легко ориентируются головокружительно «свободные» (а на самом деле – повязанные по рукам и ногам) герои.
Это и Зейнаб, чегемская Кармен, лихо меняющая возлюбленных. Красавица-абхазка не прочь и шампанское распить с незнакомым мужчиной, и наркотиками побаловаться. Особый романтический шик придает ей – в ее же глазах – связь с «честным» бандитом, живущим по лозунгу «грабь награбленное». И отец, не выдержавший ее приключений, убивает дочь – прямо перед родовым домом в Чегеме…
Это и бармен Адгур, не расстающийся с парабеллумом, как должное воспринимающий не только ежедневные перестрелки, бандитизм, поднадоевшие ограбления, но и то, что подкуплена милиция, адвокатура, врачи в больнице, которые делают или не делают операцию в зависимости от указаний главаря.
«Неофициальная» жизнь Мухуса, запечатленная Искандером, совсем иная, чем неофициальная жизнь послевоенного дворика. Знаменитый искандеровский смех резко меняется. Юмор окрашивается в мрачные тона, сменяется черным сарказмом; теплая улыбка, свойственная ранее интонации рассказчика, постепенно застывает от горечи правды, о которой поведано столь откровенно и с такой болью. Мы не обнаружим здесь прямых выплесков авторского гнева. Не найдем открытой публицистичности и бичевания пороков, низко павших нравов, а также откровенных картин торжества «бриллиантовой» жизни. Искандер остается Искандером – прежде всего художником. Но гротеск его меняется – становится трагическим. Свой мир превратился в чужой мир. Кругом та же красота Черноморского побережья, цветущие олеандры, уютные кофейни, но все это теперь представляется лишь декорацией.
Теперь торжествует геройство совсем иного рода – не ради спасения, защиты человека, не ради утверждения великих ценностей, справедливости, совести – нет, ради защиты своих денежных интересов. Прежние богатыри вытеснены в уважительном сознании массы «богатыми богатырями».
«Наш род», «наша семья», «клянусь мамой», «клянусь своими детьми» – это лишь обесцвеченные и обесцененные знаки, скелеты тех великих смыслов, которые когда-то эти слова обозначали. Все обесценено и обесчещено: и жизнь, и смерть, и продолжение рода, и семейные связи. Содержание умерло, остался ритуал, а его исполнение выглядит фальшиво-напыщенным («Сейчас какое настроение пить, когда в Чегеме бабушка лежит мертвая…»). Да если уж совсем по правде, то и ритуала не осталось; чегемская Зейнаб способна сегодня позволить своему ухажеру размозжить голову родной бабушке, случайно заставшей на любовном свидании пятнадцатилетнюю внучку.
6
Распад человечности, забвение веками складывавшейся народной этики, гибель и разрушение рода, равнодушие людей к будущему народа – вот о чем жестко и нелицеприятно пишет Искандер.
Но его социальность отнюдь не в ущерб художественности. Вот, скажем, он исследует корни подчинения, холопской, рабской зависимости «кроликов» от гипнотизирующих их «удавов» («Кролики и удавы»). Если в этой конформистской среде неожиданно появляется свободолюбивый кролик, чьей смелости хватает на то, чтобы, уже будучи проглоченным, упереться в животе – то об этом «бешеном кролике» пятьдесят лет потрясенные удавы будут рассказывать легенды…
Однако на самом-то деле и кролики, и удавы стоят друг друга. Их странный симбиоз, главным законом которого является закон беспрекословного проглатывания, основан на воровстве, пропитан ложью, социальной демагогией, пустым фразерством, постоянно подновляемыми лозунгами (вроде главного лозунга о будущей Цветной Капусте, которая когда-нибудь украсит стол каждого кролика!). Это – сообщество скрепленных взаимным рабством – рабством покорных холопов и развращенных хозяев. Хозяева ведь тоже скованы страхом – попробуй, скажем, удав не приподнять – в знак верности – головы во время исполнения боевого гимна… Немедленно лишат жизни как изменника!
В «Кроликах и удавах» смех Искандера приобретает грустную, если не мрачную, окраску. Заканчивая эту столь удивительную и вместе с тем столь поучительную историю, автор замечает: «…я предпочитаю слушателя, несколько помрачневшего. Мне кажется, что для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь». Искандер смотрит на реальность трезво, без иллюзий, открыто говоря о том, что, пока кролики раздираемы внутренними противоречиями (а удавам только этого и надо), они будут покорно идти на убой.
И в то же время философская эта сказка удивительно смешна в каждой своей детали. Например, вдруг – из нутра удава – стал дерзить Великому Питону проглоченный кролик. И Великий Питон обобщает: «Удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен…» Искандер головокружительно свободно пародирует социальную демагогию. Освобождением от ее догм и оков и звучит раскрепощающий смех автора.
Но на что же надеяться в этом мире, если он состоит из удавов, кроликов и обворованных тупых туземцев, если судить по искандеровской сказке? «Очеловечивание человека» – так определяет сам писатель задачу литературы. Он не оставляет у читателя ощущения безнадежности и пессимизма. Вспомним «Утраты» – рассказ, повествующий о смерти сестры писателя-сатирика Зенона. Узнав о ее внезапной кончине, Зенон летит из Москвы на родину – и как много хорошего узнает он о людях, которые бескорыстно помогали обреченной больной. Что объединяло всех этих людей – разных национальностей, разных профессий – в этом порыве милосердия? «Цель человечества – хороший человек, – формулирует Искандер, – и никакой другой цели нет и быть не может».
В последние годы Искандер предоставляет нам и «выжимки» из своих наблюдений – афоризмы, в которых ирония и сарказм сплавлены с грустью наблюдаемого вокруг. Например, такой афоризм, заставляющий задуматься: «Ум без нравственности неразумен, но нравственность разумна и без ума». Искандер печалится о природе человека, позволяющей ему не только подниматься, но и деградировать. Он не принимает и не понимает жизни без ответственности, в том числе – и в литературе. Слово, по Искандеру, несет послание человеку – иначе оно перестает быть необходимым, и человек, то есть читатель, вправе разорвать свой договор со словесностью – договор о взаимности. И перестать читать.
Стремительное исчезновение с карты мира «1/6 суши земного шара», как называли СССР, геополитический разрыв с ближним кругом по швам так называемых советских республик были равны по своим болезненным последствиям не то чтобы катастрофе «Титаника», а исчезновению целой Атлантиды.
Исчезла и искандеровская Йокнопатофа, исчезли его Мухус и Чегем, исчезли насильственно насаждаемые «кумхозы», но умерли, превратились в совсем других людей и его герои. Исчезла набережная, исчез ресторан «Амра», неспешные разговоры за чашечкой турецкого кофе – вместе со всем ненавистным исчезло то, что можно назвать образом жизни. Шок исторический, который пережил и переживает его народ, не мог не стать шоком для писателя, раем которого была его земля. Исчез реальный мир – теперь он существует только как мир искандеровский, художественный, мир, созданный писателем.
Но Искандер не замолчал, хотя и это молчание было бы воспринято читателями с пониманием тяжелейшего исторического момента, переживаемого писателем вместе с крушением его мира. Крушением противоречивым, ибо одновременно уничтожалось и зловещее, и прекрасное в этом мире.
Искандер не замолчал, а продолжал работать. И тут, в этот исторический период, уложившийся в несколько непростых лет, мы все стали свидетелями рождения еще одной грани его дарования. Голос открытый, голос, не отягощенный необходимостью «эзопова языка», прямой голос автора комментировал ситуацию с новой силой. Более того, и чисто художественные тексты подтверждали, что мощь его таланта способна преодолевать законы тяготения, что его фантастический «прыжок» парит и в пространстве без опоры. Не скрою, иные из бывших поклонников блестящего дара морщились – зачем ему эта прямая речь, зачем политика, зачем, все это унижает художника, искусство должно быть вне… вот и художество становится – от влияния политических инъекций – аморфнее и скучнее…
Искандер поспешает не торопясь. Он умеет выдерживать паузу, не затягивая ее. Его мир (а сделанного им, казалось бы, уже достаточно – его мир, в отличие от реального, неистребим) обрастает новыми мирами, где эстетически прекрасное соседствует с этически безусловным. «Добро первично, и потому роза красивая», – сказал искандеровский поэт. И еще он сказал: «Главный признак провинциализма в литературе – стремление быть модным».
Искандер не может быть модным или немодным автором. Не может он и создать моду, потому что неподражаем. Его нельзя приблизить к власти – он сам по себе власть. И поэтому же критика власти неотделима у Искандера от критики человека.
Что же касается власти (властей и их представителей), то не они могут включить Искандера в свой мир (или исключить его из этого мира), а он, именно он дарит им свое искандеровское бессмертие. Они становятся его персонажами: и Большеусый, и Тот, который хотел хорошего, но не успел; и тот, кто останется навсегда в памяти кукурузно-козлотурским афоризмом «Интересное начинание, между прочим». В повести «Поэт», в самом конце, появляется и Ельцин – Искандер не смог пройти мимо столь колоритного персонажа, запечатленного теперь искандеровской фразой «На ловца и зверь бежит». Все они включены в искандеровское многоголосие, где живые разговаривают с мертвыми, а реальные фигуры спорят с вымышленными героями. Хотя на самом-то деле, думаю, Сандро из Чегема будет и впредь живее тех, кто полагает себя реальными действующими лицами.
Свобода по отношению к обществу и власти гарантирует у Искандера свободу по отношению к человеку. Поэтому мир Искандера объемен и стереоскопичен. Казалось бы, все так просто! Но очень трудно и больно: «Настоящий поэт – это человек, который выхватывает из костра горящий уголек и пишет им ясным почерком».
Только так.
Искандер своей литературой компенсировал нам унылость проживания жизни. Он как бы говорил и говорит всем нам: не впадайте в тоску, жизнь удивительно богата на краски, на неожиданные, авантюрные повороты! Сейчас я вам покажу, на что она способна! Сам удивляюсь! Еще не вечер, господа, совсем еще не вечер!
Такой взбадривающий, антидепрессивный укол.
И главное, лекарство от Искандера – продолжительного действия.
Попробуйте сами.
Наталья Иванова
Кролики и удавы
Это случилось в далекие-предалекие времена в одной южной-преюжной стране. Короче говоря, в Африке.
В этот жаркий летний день два удава, лежа на большом мшистом камне, грелись на солнце, мирно переваривая недавно проглоченных кроликов. Один из них был старый одноглазый удав, известный среди собратьев под кличкой Косой, хотя он был именно одноглазый, а не косой…
Другой был совсем юный удав и не имел еще никакой клички. Несмотря на молодость, он уже достаточно хорошо глотал кроликов и поэтому внушал достаточно большие надежды. Во всяком случае, он еще недавно питался мышками и цыплятами диких индеек, но теперь уже перешел на кроликов, что было, учитывая его возраст, немалым успехом.
Вокруг отдыхающих удавов расстилались густые тропические леса, где росли слоновые и кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья. Порхали бабочки величиной с маленькую птичку и птицы величиной с большую бабочку. Вспыхивая разноцветным оперением, с дерева на дерево перелетали попугаи, даже на лету не переставая тараторить.
Иногда на вершинах деревьев трещали ветки и взвизгивали обезьяны, после чего раздавался сонный рык дремлющего поблизости льва. Услышав рык, обезьяны переходили на шепот, но потом, забывшись, опять начинали взвизгивать, и опять лев рыком предупреждал их, что они ему мешают спать, а он с вечера отправляется на охоту.
Обезьяны снова переходили на шепот, но совсем замолкнуть никак не могли. Они вечно о чем-то спорили, а чего они не поделили, было непонятно.
Впрочем, два удава, отдыхающие на мшистом камне, не обращали внимания на эти взвизги. Какие-нибудь глупости, думали они, иногда мимоходом улавливая обезьянью возню, какой-нибудь гнилой банан не поделили, вот и спорят…
– Я одного никак не могу понять, – сказал юный удав, только недавно научившийся глотать кроликов, – почему кролики не убегают, когда я на них смотрю, ведь они обычно очень быстро бегают?
– Как – почему? – удивился Косой. – Ведь мы их гипнотизируем…
– А что такое «гипнотизировать»? – спросил юный удав.
Следует сказать, что в те далекие времена, которые мы взялись описывать, удавы не душили свою жертву, но, встретившись, или, вернее, сумев подстеречь ее на достаточно близком расстоянии, взглядом вызывали в ней то самое оцепенение, которое в простонародье именуется гипнозом.
– А что такое «гипнотизировать»? – стало быть, спросил юный удав.
– Точно ответить я затрудняюсь, – сказал Косой, хотя он не был косой, а был только одноглазый, – во всяком случае, если на кролика смотреть на достаточно близком расстоянии, он не должен шевелиться.
– А почему не должен? – удивился юный удав. – Я, например, чувствую, что они у меня иногда даже в животе шевелятся…
– В животе можно, – кивнул Косой, – только если он шевелится в нужном направлении.
Тут Косой слегка поерзал на месте, чтобы сдвинуть проглоченного кролика, потому что тот вдруг остановился, словно услышал их разговор.
Дело в том, что в жизни этого старого удава был несчастный случай, после которого он лишился одного глаза и едва остался жив. Каждый раз, когда он вспоминал этот случай, проглоченный кролик останавливался у него в животе и приходилось слегка поерзать, чтобы сдвинуть его с места. Вопросы юного удава опять напомнили ему этот случай, который он не любил вспоминать.
– Все-таки я не понимаю, – через некоторое время спросил юный удав, – почему кролик не должен шевелиться, когда мы на него смотрим?
– Ну, как тебе это объяснить? – задумался Косой. – Видно, так жизнь устроена, видно, это такой старинный приятный обычай…
– Для нас, конечно, приятный, – согласился юный удав, подумав, – но ведь для кроликов неприятный?
– Пожалуй, – после некоторой паузы ответил Косой.
В сущности, Косой для удава был чересчур добрый, хотя и недостаточно добрый, чтобы отказаться от нежного мяса кроликов. Он делал для кроликов единственное, что мог, он старался их глотать так, чтобы причинить им как можно меньше боли, за что в конце концов поплатился.
– Так неужели кролики, – продолжал юный удав, – никогда не пытались восстать против этого неприятного для них обычая?
– Была попытка, – ответил Косой, – но лучше ты меня об этом не спрашивай, мне это неприятно вспоминать…
– Но, пожалуйста, – взмолился юный удав, – мне так хочется послушать про что-нибудь интересное!
– Дело в том, – отвечал Косой, – что восстал именно мой кролик, после чего я и остался одноглазым.
– Он что, тебе выцарапал глаз? – удивился юный удав.
– Не в прямом смысле, но, во всяком случае, по его вине я остался одноглазым, – сказал Косой, прислушиваясь, как воздействуют его слова на движение кролика внутри живота. Ничего, кролик как будто двигался…
– Расскажи, – снова взмолился юный удав, – мне очень хочется узнать, как это случилось…
Косой был очень старый и очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще юного, но уже вполне умелого удава.
– Ладно, – согласился Косой, – я тебе расскажу, только учти, что это секрет, младые удавы о нем не должны знать.
– Никогда! – поклялся юный удав, как и все клянущиеся в таких случаях, принимая жар своего любопытства за горячую верность клятве.
– Это случилось лет семьдесят тому назад, – начал Косой, – я тогда был не намного старше тебя. В тот день я подстерег кролика у Ослиного Водопоя и вполне нормально проглотил его. Сначала все шло хорошо, но потом, когда кролик дошел до середины моего живота, он вдруг встал на задние лапы, уперся головой в мою спину и…
Тут Косой внезапно прервал свой рассказ и стал к чему-то прислушиваться.
– Уперся головой в твою спину, и что? – в нетерпении спросил юный удав.
– Сдается мне, что нас подслушивают, – сказал Косой, поворачиваясь зрячим профилем в сторону кустов рододендрона, возле которых они лежали.
– Нет, – возразил юный удав, – тебе это показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай дальше!
– Я косой, а не глухой, – проворчал старый удав, но постепенно успокоился. По-видимому, подумал он, шорох ветра в кустах рододендрона я принял за шевеление живого существа.
И он продолжил свой удивительный рассказ. Так как он часто прерывался – то занимаясь своим кроличьим запором, то подозревая, что его кто-то подслушивает, с чем юный удав никак не соглашался, потому что опасения за чужую тайну всегда кажутся преувеличенными, – мы более коротко перескажем эту историю.
Не опасаясь подслушивания, да и, признайтесь, приятно быть смелым за счет чужой тайны, мы расскажем все, как было.
Итак, Косой, который тогда не был ни старым, ни косым, проглотил кролика у Ослиного Водопоя. И действительно, сначала все шло как по маслу, пока кролик вдруг не встал на задние лапы и снизу не уперся головой ему в спину, давая понять, что он дальше двигаться не намерен.
– Ты что, – говорил ему Косой, – баловаться вздумал? Переваривайся и двигайся дальше!
– А я, – кричит кролик из живота, – назло тебе так и буду стоять!
– Делай им после этого добро, – сказал Косой и, подумав, добавил: – Посмотрим, как ты устоишь…
И стал он лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно, а кролику ничего.
– А мне не больно, а мне не больно! – кричит он из живота.
В самом деле, подумал удав, ведь шкура у меня толстая, и вся боль, предназначенная этому негодяю, приходится на меня самого.
– Ладно, – все еще спокойно говорил Косой, – сейчас я тебя сдерну оттуда…
Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень до того самого места, где живот его растопырил этот живучий кролик.
– Ложись! – крикнул он. – Сейчас молотить начну!
– Молоти! – отвечал ему из живота этот бешеный кролик. – Сейчас покрепче упрусь!
Тут удав в самом деле разозлился и давай ерзать изо всех сил под своим корнем: взад-вперед! взад-вперед!
Пальма трясется, кокосовые орехи летят на землю, а кролику хоть бы что!
– Давай! – кричит. – Еще! – кричит. – Слабо! – кричит.
Косой от ярости так растряс пальму, что обезьяна, с любопытством следившая за его странным поведением, неожиданно свалилась ему на голову. Удар был очень чувствительный, потому что обезьяна летела с самой вершины этой пальмы. Он попытался ее укусить, но она, шлепнувшись ему на голову, успела отлететь в сторону. Он метнулся было за нею, но кролик, стоявший у него поперек живота, не дал ему дотянуться до нее.
Уже до этого достаточно оскорбленный поведением кролика, а теперь и вовсе обесчещенный падением обезьяны на голову, удав пришел в неимоверную ярость и так дернулся, что корень оборвался, и он изо всех сил ударился головой о самшитовое дерево, росшее рядом, и потерял сознание.
Примерно через час он пришел в себя и, приподняв голову, огляделся. Хотя в голове у него гудело, он все-таки услышал вокруг родное шипение родных удавов. Узнали, значит, приползли, переговариваются…
– Коль не повезет, – прошипел один, – так и кроликом подавишься…
– А некоторые еще нам завидуют, – сказал удав, известный среди удавов тем, что привык все видеть в мрачном свете.
– Братцы, – простонал Косой, – умялся он там, пропихнулся?
– Примерно на одну обезьянью ладонь пропихнулся, – сказал удав, лежавший поблизости.
– Смотря какая обезьяна, – вдруг сверху с пальмы проговорила мартышка, – если взять орангутана, то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся…
– Этот кролик и не пропихнулся, и не умялся, – подхватил удав, привыкший все видеть в мрачном свете, – как стоял колом, так и стоит…
– Братцы, – взмолился Косой, – помогите…