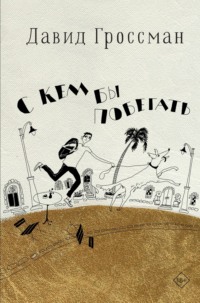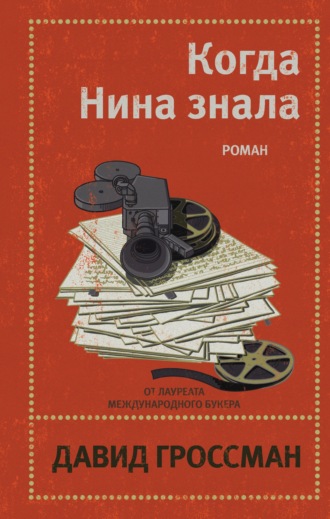
Полная версия
Когда Нина знала
Вот пожалуйста, дочка дедушки Тувии, старшая сестра моего отца, произнесла маленькую речь: «После того, что они тридцать два года прожили вместе, я совершенно искренне считаю, что Вера не только неотъемлемая и постоянная часть нашей семьи, но и что без Веры мы бы вообще не были той семьей, каковой являемся». Сказала, как всегда, скромно и просто, и Рафаэль был не единственный, кто смахнул слезу. Вера скривила рот – есть у нее такая ироническая гримаса на то, что показалось слишком приторным, – и Рафаэль, который фотографировал, как и на всех семейных торжествах, шепнул мне уголком рта: «До чего же Верина оценка или похвала всегда характерны для нее одной».
Как только началось торжество, она сообщила, что в такой день у нее у одной есть право осыпать саму себя комплиментами, а потому можно сразу приступать к застолью. Но тут уж семья встала на дыбы. Представители всех поколений и всех возрастов вставали и высказывали ей похвалы – дело необычное, потому что на самом деле Бруки не говоруны и им редко приходит в голову так вот рассказывать кому-то столь интимные вещи, да еще и прилюдно. Но вот сказать их Вере им захотелось. Почти у каждого в этой комнате был рассказ о том, как Вера ему помогла, за ним поухаживала, спасла его от чего-то плохого или от самого себя. Мой рассказ был самым сенсационным. Он касался некоего злодеяния, причиненного моей душе, когда мне было двадцать три года, удара, нанесенного мне неким человеком, да исчезнет имя его из всех моих воспоминаний. Но и мне самой, и Вере было ясно, что все, что следует рассказать, я, по обыкновению, поведаю ей наедине, как говорится, с глазу на глаз. Особенно трогательным был момент, когда Том, внук Эстер, которому было два с половиной, обкакался и, как бы демонстрируя свою независимость, ни за что не согласился на то, чтобы подгузник ему поменяла мать или бабушка Эстер, и когда та спросила, кого же он выбирает для этой цели, он радостно завопил: «Та`ту Веру!» Чем вызвал взрыв смеха.
Вера с потрясающей ловкостью спрыгнула со своего кресла, побежала, почти как девчонка, только что тело слегка скривлено в левый бок, и поменяла в сторонке Тому подгузник, и, пока это делала, подала нам знак, чтобы продолжали толкать речи и «раз уж решили, так ради бога…» А тем временем она вся была сосредоточена на улыбающемся личике Тома, и ворковала ему в пупок что-то на сербскохорватском с венгерским акцентом, и, конечно же, прислушивалась к словам, которые у нее за спиной о ней говорились. И когда, несмотря на свои девяносто лет, она помахала в воздухе переодетым Томом, который хохотал и пытался стянуть с нее очки, я вдруг почувствовала, как глубоко внутри будто кто-то меня куснул. Боль из-за того, что никогда в жизни я такой не стану и этого не сделаю, и как не хватает мне моего мужчины, Меира… И подумала, что нужно было попросить его прийти со мной, ведь знала же заранее, какой незащищенной и уязвимой буду здесь, с Ниной.
За сорок пять лет до этого, зимой 1963 года, в тот вечер, когда Вера и его отец Тувия собирались стать парой, Рафаэль пошел в спортзал кибуца. Позади этого зала распростерлось пустое песчаное поле, и в последний год, с тех пор, как умерла мама, он упражнялся там в метании ядра. Солнце село, но в небе еще разлит слабый свет, и в воздухе уже замелькали стеклышки дождя. Раз за разом, десятки раз метал Рафаэль ядра весом в три-четыре килограмма. Ярость и ненависть потрясающе улучшили его достижения. Когда он почувствовал, что замерз, и уже захотел вернуться в комнату интерната, зарыться головой в подушку и не думать про то, что отец его будет делать ночью, а то и прямо сейчас, с этой своей югославской шлюхой, перед ним возникла Вера. Она шла с коричневым чемоданом, огромным, почти с нее ростом. Поставив этот свой обшитый кожаными ремешками и металлическими гвоздиками чемодан в грязь (классная штуковина, на которую я давно положила глаз) и вытянув вперед руки, она встала перед Рафаэлем, будто отдавая ему себя на суд. Что ему оставалось делать! Не глядя на нее, он продолжил метать ядра. За те две недели, что он ее встретил и укусил, Рафаэль успел узнать, что Вера – мать той девчонки, в которую он влюблен. Этот факт был столь ужасен, что он изо всех сил старался о нем не думать, но сейчас Вера стояла перед ним как живое напоминание.
Дождь стал для нее неожиданностью. На ней был тонкий свитерок баклажанового цвета с закругленным белым воротничком с рюшками, а на ногах – белые туфли, которые уже покрылись грязью. Маленькая фиолетовая шляпка была надета набекрень – факт, разозливший Рафаэля не меньше, чем сама шляпка. Были на ней также тоненькое золотое ожерелье и жемчужные сережки – вещи, которые нацепляют на себя только горожанки.
Господи, сейчас, когда я это пишу, до меня вдруг дошло: это же был Верин свадебный наряд.
И это была ее брачная ночь.
Со своим тяжелым венгерским акцентом – дома в Хорватии они говорили в основном на венгерском – она спросила: «Рафаэль, можешь минутку со мной поговорить?», а он надвинул на глаза свой капюшон, повернулся к ней спиной и метнул в темноту еще одно ядро. Вера с минуту поколебалась, а потом шагнула вперед, подняла ядро и взвесила его в руке. Рафаэль застыл в середине броска и будто забыл, что делать дальше. Без всякой подготовки, без вращения вокруг собственной оси, Вера одним глубоким толчком швырнула железное ядро на невероятное расстояние, может, на метр дальше, чем он.
Рафаэль был парнишка худой, но сильный, один из самых сильных среди сверстников. Он поднял другое ядро, поместил его во впадину плеча, закрыл глаза и, не торопясь, вложил в него все отвращение, которое к ней испытывал.
Почему-то этого ему не хватило, и он продолжал себя заводить да еще и вкладывать в ядро ненависть к отцу, который собирался предать маму с этой чужачкой, которая к тому же и мать Нины. Даже и эта мысль не смогла заставить толкнуть ядро, и он продолжал вращаться вокруг собственной оси, пока вдруг внутрь не прорвалась еще и мутная струя ярости на мать, именно на нее, на то, что, когда он был еще пятилетним малышом, она вдруг начала отдаляться и уходить в свою болезнь.
Темнота сгустилась, дождь полил сильней. Вера быстро потерла руки то ли от холода, то ли от радости состязания, которая ее распалила. Рафаэль продемонстрировал мне это в картине, которую я снимала. Эту черту я в ней знала и не любила. Она, кстати, и по сей день такова: в минуты конфликтов или споров, обычно связанных с политикой, в ней вдруг пробуждается что-то железное, несгибаемое – где-то внутри, в глазах, даже в коже. Если, допустим, в ней зародилось подозрение, что кто-то из семьи или из кибуца согласен с каким-то аргументом правых или осмелился проронить доброе слово о поселенцах[3], тут, не приведи господь, «жди урагана» – это светопреставление, громы, молнии и дым коромыслом. Даже и мальчишкой Рафаэль это сразу чувствовал, говорил, что это «не материнское поведение», хотя что такое «материнское поведение», точно и не знал. Когда Вера вторглась в его жизнь, он был полным незнайкой по части всего, что связано с материнством. Она очень быстро сняла с себя ожерелье, браслеты и серьги, положила все это рядышком на чемодан и прикрыла своей дурацкой шляпкой. Когда все легло на место, она легкими движениями закатала рукава своего свитера и блузки, и тут Рафаэль увидел мышцы ее рук и переплетения ее сухожилий. Он глядел на них, открыв рот: как она с такими-то мышцами собирается стать чьей-то мамой? Мир вокруг уже потемнел. С горы Кармель прокатился гром. Вера с Рафаэлем едва различали ядра, которые они метали. Лишь их черный металлический бок на мгновенье взблескивал в свете фонаря, что над тропой, а то под мигание далекой молнии. Ядра падали все ближе к их ногам, и когда они поднимали их из грязи, у них почти уже и не было сил метнуть их снова. Но они продолжали, продолжали оба, метали, стонали и вставали задохнувшись, прижав руку к боку. Каждые несколько минут молча шли рядом на поиски ядер, что валялись в лужах, как откормленные головастики.
За минуту до того, как Рафаэль признался, что нет у него больше сил, она положила свое ядро на землю, возвела вверх руки и пошла к чемодану. У него было ощущение, что проиграла она ему специально, и это ему понравилось. Поступок матери («Ты должна понять, Гили, в то время я делил все человечество – смейся-смейся, и мужчин тоже – на две половины: кто мать и кто не мать»). Вера встала к нему спиной, быстро надела свои браслеты и серьги, напялила свою фиолетовую шляпку и сдвинула ее набекрень, что пробудило в Рафаэле желание сорвать ее с головы, кинуть в лужу и попрыгать на ней обеими ногами. Потом она к нему обернулась. Тело ее тряслось от стужи, губы синие, но взгляд твердый.
«Выслушай меня. Я пришла сюда, чтобы с тобой поговорить перед тем, как войду к вам в дом. Мне важно, чтобы ты знал. Я не хочу быть твоей мамой ни в коем разе, я просто хочу тебя любить». Иврит у нее был сносный – еще в Югославии, когда ждала разрешения на выезд в Израиль, учила иврит вместе с Ниной у одной еврейской журналистки, – но из-за акцента ему показалось, что она говорит: «Просто хочу тебя убить».
«Ты в жизни не сможешь стать мне мамой, – прошептал Рафаэль про себя, – в жизни не сумеешь жить, как моя мама». В последние годы своей болезни его мать лежала за дверью спальни, и он почти ее не видел. Иногда, когда она звала его из своей комнаты басом, который у нее появился, он выскакивал из окна своей комнаты и убегал. Ему было невыносимо ее лицо, распухшее, как надувной шар, как карикатура красивой и изящной мамы, которая у него была, невыносима эта кислая вонь, которая от нее исходила, заполняла весь дом и липла к его одежкам и к его душе. Когда он был маленьким, пятилетним или шестилетним, бывали ночи, когда его отец Тувия относил его на руках в мамину кровать, чтобы она посмотрела на сына и прикоснулась к нему. А когда наутро Рафаэль просыпался, по запаху пижамы всегда зная, что ночью его относили к маме, он требовал, иногда в истерике, чтобы пижаму немедленно бросили в стирку.
Вера сказала Рафаэлю: «Никто в мире не может стать тебе мамой, и это твой дом, а я в нем всего лишь гостья. Но я обещаю to do my best, и если ты меня не захочешь, тебе стоит сказать одно слово, и я в ту же минуту заберу свои вещи и уйду».
Минута? Пять минут? Сколько времени простояли они так под дождем? Тут есть разные версии. Вера клянется – включая церемониал: сухой плевок в сторону, когда верхняя губа прикрывает губу нижнюю, – что это длилось не меньше десяти минут. Рафаэль, не вдаваясь в тонкости, утверждает, что не больше полминуты, а я, как всегда, склонна поверить ему.
В моем старом фильме, который сейчас перед нами на Верином экране, звучит мой голос, цитирующий Рафаэлю нечто, что когда-то я услышала от его отца Тувии, моего дедушки-агронома: «Есть семена, которым для прорастания хватит лишь зернышка почвы», фраза, так сильно впечатлившая меня в мои пятнадцать лет. Десять минут или полминуты – Вера тогда сильно схватила его за руки, и он свои не отдернул. У нее все еще было забинтовано то место, которое он укусил, но она своими миниатюрными большими пальцами все гладила и гладила его пальцы и ждала, когда Рафаэль перестанет плакать. Оказалось, что одного зернышка почвы может хватить и на двоих, если они в полном отчаянии.
Потом Вера своим приказным бен-гурионовским тоном сказала: «Рафаэль! Пошли!» Нести свой чемодан она ему не дала. Они молча двинулись в комнату Тувии. Когда-нибудь, когда я начну снимать свои фильмы (в скором будущем, иншаллах), я непременно воссоздам сцену этой прогулки под дождем, хлеставшим по диагонали в желтых лучах фонарей. По пути им не встретилось ни души. Все кибуцники сидели по домам, шли одни они, вымокшие, расчувствовавшиеся, без слов принявшие этот свой договор, ставший для них незыблемым, договор, который продержался сорок пять лет и ни разу не был нарушен.
Они вошли в квартиру – «комнаты», как по-кибуцному, – Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришло бы в голову такое с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» – сказала она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вере тоже. «Доброй ночи», – сказала она. И он шепотом повторил это за ней.
Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркальца и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам… В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».
Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения мама лишила его навсегда. «Как знак Каина», – сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, – это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.
Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.
Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, – сказала Нина с кривой улыбкой. – Значит, и мы можем».
Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна лубить (она произнесла: «лубить»; мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одного мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».
А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все дни шивы[4], стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время… ну, понимаете… мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».
И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что мы с Тувией, ну, ты понимаешь… Тувия вдруг надевает «головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков… и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»
Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она прямиком пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».
Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.
Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь… оба хотим. Разреши нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! – Она повернулась уходить, но остановилась. – Передай от меня привет своему сыночку, – сказала она Тувии. – Твой сын – самый хороший человек из всех, кого я встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней – а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, – мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, – сказала она. – Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»
И исчезла.
Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин магнитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней – минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувию, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувию, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоем папе, о Рафи, для меня это было – как это говорят сионисты? – свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего-то было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». – «Бабушка! – поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сберечь святую простоту детей? – Зачем ты мне все это рассказываешь?»
«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».
«Каких-таких секретов? Есть секреты?»
И тут она испустила вздох, вырвавшийся из ее душевного подземелья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».
«Почему именно у меня?»
«Потому что ты как я».
Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошило.
«Не понимаю, бабушка».
Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».
Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.
И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.
Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Израиль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней – ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полученном от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Милош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша, возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочки, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести…
Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетии (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого сборища, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящиков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний – ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», – процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали. И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и военный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.