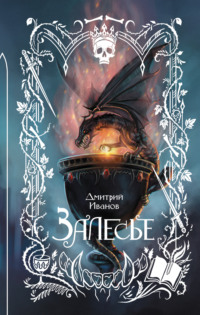Полная версия
Трансильванские рассказы
– Ну ладно. Слушай тогда. В городе Германнштадте на улице Заггассе живёт мой давний знакомый Мельхиор – лучший алхимик во всём венгерском королевстве. Знает он секреты металлов, камней, субстанций разных. Варит он любые зелья, эликсиры или яды. Он-то и зайца вашего вывести сможет. Только вот существо живое сделать – это же вам не мазь замешать. Много золота он потребует, да ещё всё необходимое достать придётся.
– Я Хорсту передам, а он пусть сам решает, сможет ли заплатить за работу мастера Мельхиора.
– Хорошо, вот держи, записку ему от меня, без неё он вас даже на порог не пустит.
Тут взмахнул магистр Клинзор рукой – в миг со столика свиток запечатанный сорвался, да по воздуху прямо к нему в ладонь и прилетел. Оказывается, он ещё до моего прихода готов был, видать знал чернокнижник наперёд, зачем я к нему пожалую.
На следующий день отправился я в Германнштадт. По дороге в каждом городе про мастера Мельхиора спрашивал. Разное рассказывали про него. Родился он больше трёхсот лет назад где-то немецких землях. Ещё там увлёкся алхимией. За странные опыты не взлюбили его горожане. Кому понравится, если у них под боком распространяются ядовитые миазмы, гремят взрывы и призываются сущности из мира теней? Вот и вынужден был знаток тёмных искусств приселиться в Семиградье, подальше от мнительных соседей. Отправился, говорят, с первой группой поселенцев, той самой, которая и основала деревню на берегу Цибина. Там и люди посмелее были, и человек знающий всегда на новом месте пригодится. А как жизнь в Семиградье наладилась, призвал он работничков – известно каких – и приказал им строить башню в Карпатах до самых небес. И стоит ему захотеть, как чародей тотчас туда из дома своего и переносится. Когда монголы деревню Германна разорили, отправили они отряд ту башню захватить, да не сумели. Всех магистр Мельхиор огнём пожёг, только вот греческим или адовым – тут мнения расходятся. Говорили также, будто удалось ему изготовить философский камень, оттого и живёт так долго. А ещё написал он богохульную книгу «Processus sub forma missae». Только вот достать её можно лишь избранным.
В Германнштадте удалось мне найти мастера, как и казал Клингзор, в Нижнем городе на улице Заггассе. Сначала слуга меня даже на порог пускать не хотел, но как печать кронштадтского чернокнижника увидел, сразу смекнул, в чём дело, сообщил хозяину, и тот разрешил мне пройти. Сумму алхимик запросил немалую, только не велел распространяться на сей счёт. А ещё сказал добыть то, из чего будет вольпертингеров делать: свежие утиные яйца сто штук, семенники зайца на льду, оленьи рога и клыки мускусного оленя с востока. И надлежало явиться нам обоим, ему дескать лучше заклинание на двоих наложить, так как один может не справиться. О чём шла речь я тогда не понял, потом уж сообразил.
Приехал я к Хорсту и всё ему рассказал. Думал, не захочет пивовар такие деньжищи тратить. А он, наоборот, так вдохновился, даже улыбка на лице появилась блеск в глазах вернулся, румянец на щеках проступил. Пришлось ему четверть суммы у ростовщика занять. А ещё клыки мускусного оленя едва нашли. Как всё собрали, поехали в Германнштадт.
Ждал нас уже Мельхиор. Времени зря тратить не стал. Сперва реагенты осмотрел, потом золото пересчитал. А затем три раза посохом об пол ударил. Тотчас померкло всё перед глазами, и очутились мы с Хорстом в большой длинной комнате, похожей на неф церкви. Над головой своды высокие смыкаются, их рёбра на консолях в форме диковинных голов покоятся. На замковых камнях символы странные вырезаны. Запалубки расписаны, словно ночное небо. Только вот звёзды там впрямь двигались, будто настоящие. А впереди стоял алтарь, накрытый скатертью. На нём – подсвечники, распятие и книга, возможно Библия, а, быть может, и гримуар какой нечестивый. А вдоль стен статуи святых, да только таких, каких нигде больше не увидишь, и свитки в их руках с надписями на латинском, греческом, иврите, арабском, а ещё на странном языке, где вместо букв птицы рыбы, человечки и палочки.
«Где же мы оказались?» – подумал я. В окна посмотрел, да только ничего не увидел, тьма за ними кромешная. Вдруг дверь распахнулась, и оттуда вышел Мельхиор, облачённый, как священник в парчовом плувиале, с посохом. Магистр начал покаянную молитву, а затем взял с жертвенника книгу и начал читать. И хоть я в латыни не особо разумею, но показалось мне, что раньше в церкви я такого не слышал, а слова его сплошь богохульные, хотя меж ними не раз повторялось имя Господа нашего и матери Его пречистой Девы, а ещё святых и архангелов. Страшно сделалось, а деваться некуда. Так стояли мы с Хорстом и смотрели. И показалось мне, будто воздух сгустился и колеблется в такт голосу. Иной раз жарко становилось, иной раз стужа пробивала. И свечи то трепетали, то вспыхивали. Тьма то сгущалась, то рассеивалась. А тени, тени-то по стенкам скакали, будто живые, как если бы не вдвоём мы с Шалькхамером стояли, а весь зал наполняло множество разных существ.
Затем послышалось пение псалмов, двери раскрылись и в зал вошли люди в облачениях алтарных служек. Они поднесли наши реагенты, а мастер составил их на жертвеннике. Мельхиор развернул корпорал, перелил кашицу из семенников зайца в серебряный сосуд и высоко поднял его на вытянутых руках, читая на распев молитву. Затем он достал кадило и воскурил фемиам, а как благовонный дым рассеялся, омыл руки, а далее к нам повернулся и молиться призвал. Сам же алхимик над алтарём наклонился, руки сложил и зашептал что-то неразборчивое, словно шваб. А затем добавил по одному порошки из рогов и клыков в кубок и над каждым заклинание прочитал. Как всё смешал, достал Мельхиор откуда-то из-под рясы серый камешек, на вид самый обычный, каких на дороге много валяется. Разместил мастер его над чашей, да так, что тот в воздухе повис. Крутится, качается, а вниз не падает. Никогда такого не видел. Затем направил он на потир ладони. Тотчас из их начали вырываться сгустки света и тьмы, а камешек тот, серый, стал их впитывать, а затем как вспыхнет зеленоватым сиянием – у меня даже по спине мурашки волной пробежали. Хорст так вообще назад отшатнулся. А потом столб лучей вниз, в самую смесь извергся. Вспенилась она и чуть за края не перелилась. Затем всё успокоилось. Тогда же вскричал алхимик:
– Эй, Эггихельм, Вакарольф, Блидегар, Трухтари, Хлодерих, Штайнмар, именем Господа нашего и той властью, которую я над вами имею, явитесь по моему зову!
Тут я подумал, что сейчас кто-то ещё из дверей выйдет. Но никого не увидел, только заметил, будто воздух то-тут, то там густеть начал и дрожать, как в жару. Отовсюду послышались писклявые голоски, да мерзкие какие:
– Чего изволите, господин?
– Именем Адонай, Саваоф, Элохим приказываю Вам, проказливые бесёныши, внести эссенцию из этой чаши вон в те яйца. Берите поровну и ни одного не пропустите!
И опять со всех сторон раздалось:
– Будет исполнено, мастер Мельхиор.
Как я ни смотрел, а ничего разглядеть не удалось. Но видимо быстро сработали, черти, так как в считанные мгновения потир опустел, а чародей его платом закрыл.
Тогда велел алхимик:
– Эй, Эггихельм, Вакарольф, Блидегар, Трухтари, Хлодерих, Штайнмар, убирайтесь туда, откуда пришли!
– Как скажете, хозяин, – запищали невидимые помощники.
Тут повернулся магистр к нам и сказал:
– Теперь лежит на вас заклятие. Нарушите его – не видать вам вольпертингеров. Сделайте всё, как я говорю, – до исхода седьмого дня вылупятся они из яиц. Власть моя над моими подручными по договору распространяется лишь до ворот города. А они – бесенята проказливые: меня только слушают, а другим всегда навредить хотят, особенно тогда, когда дело их трудов касается. Как выедете на дорогу, так мчитесь, не останавливаясь, и назад не оглядывайтесь. Кого бы вы не увидели, что бы не услышали, не сворачивайте с пути, не назад не смотрите, продолжайте скакать, покуда после рассвета не увидите крест на башне ближайшей деревни. Вот тогда силам моих помощничков конец. А о том, что здесь видели и как зверей заполучили, никому не рассказывайте семь лет и три дня.
Вручил Мельхиор нам ящики с яйцами, а в придачу дал порошок волшебный, что все запоры отпирает, дабы мы ворота ночью открыть смогли. А затем чародей три раза посохом об пол ударил, и оказались мы снова в его гостиной в Германнштадте. Попрощались мы с алхимиком, на улицу вышли, смотрим – ночь наступила. Сели мы в телегу и выехали из города через Хельтауэрские ворота. Те от средства мастера сами собой распахнулись. Поначалу вроде бы ничего особенного не происходило. Тишина кругом, лишь изредка птица в кустах крикнет или ветер в кроне ветками зашумит.
Но стоило нам только в лес въехать, как сзади конский топот послышался. Хотел я было посмотреть, да вспомнил о словах магистра Мельхира. И Хорсту говорю:
– Не оборачивайся, то бесы нас пугают.
Тот только кивнул да лошадей подстегнул. Вид у него такой сделался, будто пожалел он уже, что с алхимиком связался.
Дальше крики послышались и улюлюканье, стук копыт громче стал, оружие забренчало, как если бы за нами гналась шайка разбойников. А Шалькхамер только своих кляч подгоняет. Тут стрелы у нас над головами засвистели. А потом и выстрел из ручницы грянул. Пригнулся я, но оборачиваться не стал.
Дальше стихло всё, как будто погоня исчезла куда-то. Но не проехали мы и мили, как со всех сторон деревья скрипеть начали. Затрещали ветки справа, слева и вверху, будто ломаются. По чаще вой разнёсся. Тут впереди старый бук качнулся. Корни из земли выворотило и ствол поперёк дороги упал. Хорст уж было поводья натянул, да я его придержал:
– Не надо! морок это.
И как только лошади уже на расстояние одного локтя к бревну приблизились, исчезло наваждение – путь освободился. Снова затихло всё вокруг. Только топот копыт да шелест листьев слыхать.
И тут из кустов на обочине хрип послышался. А далее вой и стоны замогильные, да жуткие какие, точно неупокоенные души голосят. То тут, то там между деревьев глаза горящие засверкали. Гляжу, а прямо из земли вурдалаки полезли, руки тянут и когтями грунт разгребают. А впереди, о Иисус и все апостолы Его, мертвец в саване по воздуху летит. Кожа с костей лохмотьями свисает, глазницы пустые, а рубище по ветру развевается. Страсть как я тогда напугался. Это после уже в голову пришло: если б то настоящая нежить с того света явилась, то лошади бы встали. А раз не испугались, то никакого призрака и не было вовсе. Снова пустое видение бесенят мельхиоровых. Коняги-то они почитай, поумнее нас грешных, мороком их не поведёшь. Растопырил покойник руки и на нас бросился. Я только перекреститься успел. Проехали мы прямо сквозь призрака, и снова тишина наступила.
Меж тем светать начало и выход из леса впереди показался. Как вдруг сзади голос раздался, женский печальный:
– Хорст-Хорст, повернись, погляди на меня. Это я, жена твоя, Ута.
Посмотрел я на приятеля, а тот вздрогнул, и поводья чуть из рук не выпустил.
– Эй! – кричу я, – не слушай её. Не жена она тебе вовсе!
А та продолжает, да ещё жалостливее:
– Эх, Хорст-Хорст, свёл ты меня в могилу до срока. Тяжек был мне воздух твоей пивоварни, отравили меня миазмы варева твоего. Кабы не ты, жила бы я сейчас да горя не знала. Погляди в глаза жене своей. Тогда только прощу тебя.
Смотрю, а Шалькхамер кривится и слезу рукой утирает.
Тут лес закончился – поля пошли. По правую и левую руку хуторки показались. Зоря на востоке занялась. А создание нечестивое всё не унимается:
– Знаешь ты, муж мой, как загубил ты меня. Не смог мне лекаря достойного нанять, золота пожалел. А те, кто лечил меня шарлатанами оказались. До конца дней своих казниться будешь. Вспомни, как я в лихорадке билась, вспомни, как у меня горлом кровь шла.
– Нет! – вскричал Хорст. – Всё я для тебя сделал, и лекарей лучших приводил, и лекарства все их покупал, и молебны об исцелении заказывал.
– А коли так, то почему мне в глаза не смотришь? Стыдно тебе? А ежели стыдиться нечего, то посмотри на меня. Вот я за твоим левым плечом стою.
И тут призрачная рука товарища моего обняла. Снова слёзы из глаз его полились. Выпустил он поводья, и уж поворачиваться начал, как я его за голову схватил.
– Нет! – кричу. – Не верь ей. То наваждение.
Но тут Шалькхамер зубы сжал, вырвался и назад обернулся. Но в тот самый миг из-за деревьев крест церкви в Хельтау показался. Растаял призрак в воздухе, а с ним и власть бесов над нами иссякла.
Через семь дней, как и говорил Мельхиор, вылупились из яиц вольпертингеры. Телом, как зайцы, только на спине крылья утиные, на голове рога оленьи, а изо рта клыки торчат. Ох и шустрые оказались, Хорст с Зигхильдой за ними еле присматривать успевали. И сам я их собственными глазами видел. Торговля хмельным напитком наладилась. Как хозяин за дело взялся, так пиво сразу стало, как и прежде, а то и лучше.
Когда же зверьки подросли, пришло время их на волю выпускать. В честь такого события пригласил меня Шалькхамер к себе. Как же быстро они побежали, сразу в чаще скрылись, только их и видели. А после сели мы с Хорстом с кувшинчиком белого, колбасками да квашеной капустой.
– А с чего тебе вообще пришла в голову идея вольпертингеров развести? – спросил я друга.
– Да было у матушки чучело зверя этого, на каминной полке стояло. Очень уж она им гордилась. Однажды зашёл к нам молодой господин, умный, в Вене в университете учился. Тут мама ему как дорогому гостю чучело-то и показала. А тот только посмеялся, сказал, что не бывает таких животных в природе. А вещицы эти охотники нарочно делают, дабы подороже продать. Взял он чучело в руки, покрутил, повертел и показал, где крылья нитками пришиты, а рога с клыками мастикой приклеены. Ох и расстроилась тогда мама. Три дня с мигренью промаялась. А я ей компрессы на голову клал. Тогда говорила она мне: «Ты ему не верь, есть на свете вольпертингеры. Я-то точно знаю. И ты одного их них обязательно увидишь».
Прижились рогатые зайцы в Семиградье. Не раз их охотники видели. Но бить не решаются, беду на себя накликать боятся.
Екатеринбург, 2020 г.
Меч Дракулы
Я, Мельхиор, мастер-алхимик из города Германнштадт, в день святого Игнатия Теофороса Антиохийского года Господа 1510 в правление доброго короля Владислава II пишу сие послание в назидание каждому, кто волею Всевышнего или по наущению Дьявола завладеет предметом, ныне пребывающем в моём распоряжении. Речь идёт о мече, который я получил от последнего его хозяина. Как писал святой Фома Аквинский, «Diabolus non sit causa peccati directe et sufficienter; sed solum per modum persuadentis, vel proponentis appetibile»4. Так вот клинок этот и стал орудием в руках Лукавого, с помощью которого он и предлагал объект желания, тем кто вожделел власти, могущества и богатства.
Оружием этим владело немало людей. Каждый из них пытался обуздать силы, в нём заключённые, но никто не смог совладать с ними, а потому все они или погибли от собственного неблагоразумия, или же по наущению Всевышнего смогли отказаться от предмета нечестивого и богопротивного. Причём чем больше отдавался владелец клинка страстям, тем ненасытнее и яростнее становились силы тьмы, и тем труднее становилось выстоять против их.
История моя берёт начало на Святой Земле. Когда христиане освободили Гроб Господень от неверных, в Иерусалиме на деньги одного достойного и благочестивого купца и его богобоязненной супруги был выстроен госпиталь, в коем каждый прибывавший из немецких земель находил поддержку и всяческое вспоможение. А достойные мужи, трудившиеся в нём, основали Тевтонское братство Святой Марии в Иерусалиме. Но, когда Саладин захватил Город Городов, все, служившие в доме милосердия, покинули его и долгое время скитались, испытав множество невзгод и лишений.
И вот в году Господа 1190 оставили те немногие последнее пристанище и направили свои стопы к городу Акра, который осаждало христово воинство. И побуждаемые любовью к ближнему и самоотверженностью, при поддержке многих торговцев из Бремена и Любека, братья обустроили новый госпиталь за кладбищем святого Николая между горой и рекой в палатках, сшитых из парусов. Вскоре же после поражения неверных в году Господа 1191 лечебницу перенесли внутрь городских стен в здания поблизости от башни святителя Николая и резиденции патриарха. И многие из тех досточтимых братьев боролись с нечестивцами не только молитвой и исцелением немощных, но и силой оружия.
Трудился тогда в доме милосердия один святой монах по имени Готтфрид из Эрфесфурта. Столь усердствовал он в делах, угодных Господу, что однажды, изнурённый строгим постом и многодневным бдением, упал без чувств, и никто не мог привести его в себя. На исходе трёх дней разомкнул он веки и рассказал, будто, пока он пребывал в забытьи, сам архангел Михаэль явился, и возвестил о мече, который надлежало выковать, предназначалось ему победить врагов христианской веры, освободить Гроб Господень и вернуть госпиталь на его прежнее место. Также явлено было святому человеку о том способе, коим следовало сей клинок изготовить. И сталось то в году Господа 1193. Тогда повелел приор Хайнрих Вальпот фон Бассенхайм выковать меч из лучшей стали, какую только сыскали на Святой Земле. А изготовил его досточтимый брат Бернхард, бывший в Золингене искусным оружейником. Прибыл сей благонравный муж в Палестину по зову Всевышнего в составе христова воинства и принес там обеты. Закалил он клинок в воде из реки Иордан, взятой в том месте, где крестился наш Спаситель. И говорили, будто, когда работал кузнец, вторило ударам его молота ангельское пение с небес.
Принесли меч Теобальду, епископу Акры, и прелат тотчас узрел на нём Божье предначертание и предсказал многие чудеса, которые осуществятся при посредстве его. Возложил пастырь клинок на алтарь и благословил его молитвой. Тотчас осветилась церковь, будто само солнце низошло под её своды, в воздухе разнеслось дивное благоухание, а все прихожане пали ниц. Тогда передал преподобный святое оружие монахам, и те весь день и всю ночь распевали над ним псалмы. Вот так обрели члены братства оружие, преисполненное неземной благодати.
Вскоре преобразовали братство святой Марии в орден. Мечом тем владели лучшие рыцари, превосходившие остальных по доблести, отваге, рвению, равно как и по благочестию и усердию в делах Божьих. Тогда же явил клинок миру потенции, сокрытые в нём. Не мог он ранить правоверного, но, будучи обращённым против нечестивцев, троекратно преумножал мощь воина, придавал силы, когда были они на исходе. Тяжёлая кольчуга становилась с ним легче рубахи из тончайшего шёлка. А ещё говорили, будто вода, стекающая по его долу, останавливала кровотечения и исцеляла раны. И ежели хозяин оружия сего падал в бою, взлетал меч в воздух и рубил врагов сам, как если бы находился в умелой руке, и никого не подпускал к поверженному рыцарю.
Однако правоверные на Святой Земле получали всё меньше поддержки. Ожидания большой армии, способной отвоевать Иерусалим у сарацинов померкли. Новоизбранный магистр ордена Германн фон Зальца, благороднейший муж исключительной дальновидности, преисполненный Святого Духа, узрел иное предназначение, вверенного ему братства. В ту пору немало язычников нападали на восточные рубежи христианских королевств. Подобно диким варварам, богомерзкие орды нечестивцев набрасывались на любой город или селение, огнём жгли дома и церкви, убивали людей, бесчестили женщин, оскверняли святые реликвии, вкушали плоть человеческую, приносили жертвы ненасытным идолам. Правил тогда в королевстве венгерском возвышенный помыслами монарх Андреас, за своё благочестивое рвение прозванный Крестоносцем. По совету ландграфа Тюрингена, Германна он пригласил братство святой Марии защищать далёкую Ультрасильванию от набегов куманов, распространять и преумножать среди диких народов истинную веру к вящей славе Божией. Обещал государь рыцарям дать область, именуемую terra Borza, за рекой Алт, у подножия Карпатских гор. Жили там лишь немногие отважные люди из числа немцев. В остальном же оставалась та земля deserta et inhabitata5.
Более остальных возжелал отправиться к новым рубежам могучий воитель, брат Дитрих, заслуживший уважение в ордене ревностным служением и непоколебимой твёрдостью духа. Его-то и назначил упомянутый Германн фон Зальца ландмайстером в будущую провинцию, и для успеха богоугодного предприятия даровал ему тот самый меч. Тогда собрал брат Дитрих две дюжины верных рыцарей, множество воинов, монахов, простых поселенцев и отправился в Венгрию в году Господа 1211. Прибыв в Ультрасильванию, не нашли они лучше места для города и столицы, чем холм у реки Алт, заложили они там крепость и назвали её Мариенбург в честь святой покровительницы ордена. Каждый год прибывали новые поселенцы из Тюрингена, Хессена и других концов империи и основывали деревни там, где раньше бегали лишь дикие звери. Все набеги куман отражались. Никто теперь не смел грабить, жечь и разрушать во всей Дакии.
Однако Лукавый с самого начала заронил тлетворное семя в данное предприятие. Потому желал упомянутый брат Дитрих покинуть Святую Землю, что хотел он освободиться от надзора со стороны других членов ордена, в особенности достославного магистра Германна. В Палестине, будущий ландмайстер ознакомился со многими богопротивными лжеучениями местных язычников, еретиков и колдунов, начала которых коренятся во тьме веков задолго до прибытия в наш мир Спасителя. Приобрёл он там множество кодексов и свитков по тёмным искусствам и демонологии, кои хранил в секрете от других братьев. Одно желание снедало его – опробовать поскорей те обряды, ведь авторы их сулили огромное могущество тому, кто освоит их нечестивые таинства. И те рыцари, которых отобрал брат Дитрих с собой в землю Ультрасильванскую, полностью разделяли его святотатственные убеждения и признавали его за первого и старшего.
Тогда в Мариенбурге обустроили они под церковью святой Марии крипту, куда не дозволяли никому входить: ни служкам, ни прихожанам, ни простым воинам. Спрятали они там те самые книги, начертали на стенах магические знаки, возвели богопротивный алтарь. И ещё говорили, будто со всей земли дакийской свозили они себе предметы римского идолопоклонства. Вот там, в подземелье проводили отступники свои порочные обряды. Призывал сей Дитрих множество падших духов, бесов и элементалей. Избранных он поглощал и подчинял, и, таким способом, обрёл разные колдовские способности и умения. И вот, когда могущество его и искушённость в тёмных искусствах многократно приумножились, явил брат Дитрих ужасающую сущность из самых глубин преисподней. И заявило нечестивое порождение, что в знак договора и пакта потребно ему осквернить самое священное, чем владеет орден. И тогда поднесли отступники ему тот самый меч, выкованный на Святой Земле. Тотчас изошла из клинка вся Божья благодать, а её место заняла скверна и пагуба. И хоть сила и могущество оружия в тот день многократно преумножились, происходил источник их не от Господа нашего, а от Лукавого.
Теперь о том, что говорили о мече, и тех свойствах, которые обретал с ним его хозяин. Как и прежде увеличивал он мощь рыцаря, им владевшего, но теперь не делало различий лезвие между праведниками и неверными, а разило всех без разбора. Раны же им нанесённые неизменно гноились и долго не заживали. Острие же, будучи опущено в напиток, наполняло его ядом более смертоносным, чем сок мандрагоры, дурмана или болиголова. Кровь же, попав на проклятый металл, не стекала и не сохла, а впитывалась внутрь, так как сущность, обитавшая внутри, использовала её в качестве пищи. Владелец мог отпустить нечестивое оружие, дабы оно само летало по воздуху и сражалось, будто управляемое кем-то незримым. И ещё рассказывали о нём, что, если желал владелец меча знать, что говорит тот или иной человек, стоило лишь поднести клинок к уху, как тут же раздавались слова, произносимые тем несчастным, хоть и находился он за много миль. Смелость с таким клинком переходила в безрассудство, а чувство боли притуплялось, выносливость возрастала, равно как и скорость, ловкость и проворство. А потому становился тот воин неистовым, словно раненый вепрь, и сражался за троих или четверых. Стрелы отскакивали от его доспеха. И каждый, кто пребывал подле него, разделял данное исступление, но в меньшей мере. А кроме всего прочего мог меч сам разговаривать с хозяином и внушать ему греховные мысли и желания. Одни говорили, будто собственными ушами слышали голос клинка. Иные же рассказывали, что видели только, как хозяин ему отвечает, а речи оружия будто бы возникали в голове его обладателя.
И тут кажется разумным спросить, как же такой святой клинок мог стать средоточием скверны и нечестивости. Ведь как писал преподобный Хайнрих Крамер, «Daemonem nihil posse efficere absque divina permissione»6. Представляется, что данный факт осквернения явлен потому, что христиане, поклявшись вернуть Иерусалим, не сумели собрать достаточно воинства, не проявили должного рвения, да и к тому же учинили и выпестовали разлад в собственных рядах, и, поэтому, не смогли отвоевать Гроб Господень у сарацинов. А ещё высказывали соображения, что Всевышний допустил дьявольские силы в клинок в назидание всем верующим, показывая, что может статься, когда благонравные мужи отворачиваются от поклонения Святой Троице и обращаются ко лжеучению и чернокнижию.