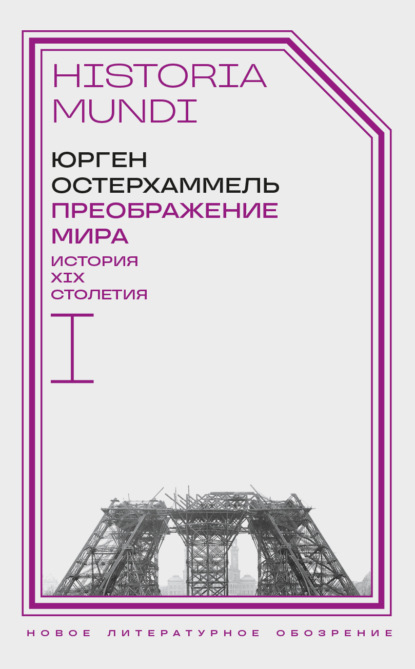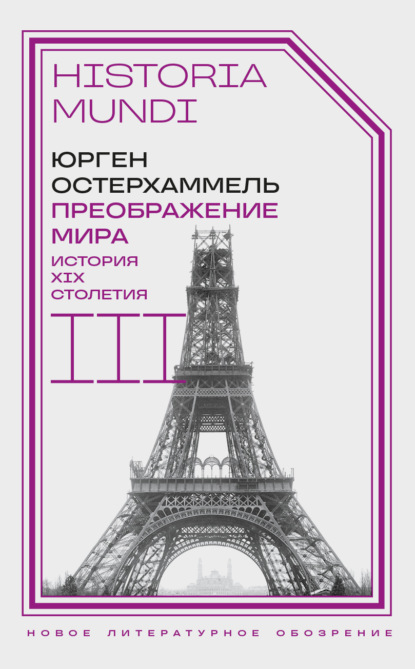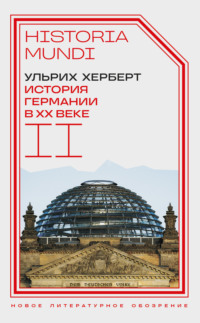Полная версия
История Германии в ХХ веке. Том I
Революционная же ориентация рабочего движения вскоре была в политической практике смягчена, тем более что социальные и политические успехи социал-демократии в условиях империи становились все более значительными. Тем не менее СДПГ как минимум официально придерживалась своих революционных базовых убеждений – уже хотя бы потому, что радикальный дискурс о грядущем идеальном обществе ориентировал на перспективу избавления от страданий и, таким образом, был важным фактором мотивации для укрепления боевого духа и чувства солидарности у рабочих. Кроме того, усиление социал-демократии вело ко все более острой реакции со стороны государства и правых сил, поэтому часто казалось, что шансов на успешные реформы и постепенные изменения в политической и социальной системе империи нет. Обострение политических конфликтов в начале ХX века привело к появлению радикального, революционного крыла социал-демократии, которое последовательно проводило в соответствии с марксистской теорией курс на насильственное свержение системы и диктатуру пролетариата. Так зародилась Коммунистическая партия – и не только в Германской империи, поскольку марксизм, разработанный в Германии, прекрасно экспортировался и стал теоретической основой зарождающихся социалистических рабочих движений во всем индустриальном мире, прежде всего в России, поскольку русские революционеры в своем анализе капитализма всегда ссылались на ситуацию в развитых капиталистических обществах Запада, и особенно в Германии44.
Сила марксизма, однако, не является свидетельством того, что социальные противоречия или политическое угнетение рабочих были особенно ярко выражены в Германии – скорее наоборот: сравнение с другими развивающимися индустриальными странами Запада здесь определенно в пользу Германии, хотя бы из‑за ее ранней ориентации на государство всеобщего благосостояния, не говоря уже об отсталой деспотической России. Скорее, становится очевидным, что Германия стала экспериментальным полем эпохи модерна на рубеже веков благодаря своему особенно успешному и, прежде всего, особенно быстрому экономическому, социальному и культурному развитию: за двадцать пять лет, прошедших с 1890 года до начала Первой мировой войны, последствия стремительных потрясений переживались здесь, так сказать, бесконтрольно, а возможные реакции и ответы на них разыгрывались во всех вариантах и в бешеной спешке. В перегретой атмосфере взрывообразно разраставшегося Берлина за очень короткое время появились новейшие варианты не только научных, технических или инфраструктурных достижений, но и культурных и идеологических. Экспрессионизм и движение за реформу жизни, радикальный национализм и радикальный марксизм, молодежное движение, модерный антисемитизм и сионизм, движение фёлькишей и ранние формы коммунистического мирового движения были задуманы и опробованы здесь почти одновременно, а иногда и в одном месте.
Из всех этих движений и идеологий национализм достиг наибольшего динамизма и наиболее интенсивного распространения. В Германии до основания Германской империи в 1871 году он был оппозиционным движением, тесно связанным со стремлением к либеральным свободам, демократии и парламентаризму. Более того, он не был привязан к национально определенному государству, а был культурным и языковым национализмом, который, по общему признанию, рано установил свою идентичность, отличаясь от негерманских групп и наций. С достижением своих целей путем создания немецкого национального государства по малогерманскому пути он мутировал в имперский национализм и, таким образом, в центральную интеграционную модель молодой, чрезвычайно разнородной и разобщенной «нации», которая теперь должна была стремиться как можно скорее обернуть объединяющие узы вокруг этого аморфного и непостоянного образования. То, что должно было считаться «немецким», изначально определялось прежде всего отграничением от не-немцев – поляков на востоке и французов на западе. Кроме того, рано возникло внутреннее размежевание с теми, кто сопротивлялся этому засилью национального государства как основной или даже единственной формы привязки и предпочитал другие ориентации: социал-демократы, прежде всего, с их ориентацией на интернационализм, а также католики с их связью с папской церковью в Риме. Уже в начале своего существования новогерманский национализм также дистанцировался от единственного нехристианского меньшинства в Германии – евреев. Из этого в 1880‑х годах вырос вполне традиционный, протестантский партийный антисемитизм, который, однако, довольно скоро исчез и уступил место другим вариантам45.
Таким образом, национализм объединил в себе многие, если не все, недовольства, претензии, страхи и тревоги: страдание от социальных потрясений и политических конфликтов, восторженное предпочтение единства многообразию, отчаяние перед лицом сложности модерного мира и стремление к простым объяснениям, страх перед анархией свободы, поиск перспектив избавления от тягот и квазирелигиозной жизненной опоры. Но помимо этого он же давал новый опыт опьянения массовыми мероприятиями и вновь пробудившееся наслаждение силой, стремление к власти и национальный экспансионизм.
С основанием национального государства сверху немецкий национализм в значительной степени лишился своего антиавторитарного, даже революционного импульса и быстро превратился в одну из доминирующих характеристик культуры новой Германской империи, которая, как и все молодые национальные государства, изначально стремилась прежде всего приобрести как можно более древние традиции и таким образом заявить о себе как о «естественном», а не просто политически желаемом объединении. Уже одно это сделало постоянную отсылку к древней Германской империи постоянным явлением в повседневной культуре. Культ германского Средневековья, германских племен, переселения народов и освободительных войн был призван продемонстрировать историческую глубину и, следовательно, легитимность и произвел эффект далеко за пределами образованных средних слоев, которые были особенно восприимчивы к нему.
В новом имперско-германском национализме объединились гордость за почти невероятный подъем Германии, энтузиазм по поводу ее экономических успехов и достигнутого ею «мирового значения». В то же время, однако, национализм стал точкой, в которой сфокусировался кризис модернизации. Людям, которых тревожил страх перед возможной утратой социального статуса, вызванный быстрыми процессами перемен, кризисными и непредсказуемыми колебаниями экономической конъюнктуры, страданиями от последствий городской цивилизации и культуры эпохи модерна, приверженность собственной нации давала чувство естественной принадлежности к чему-то большому и успешному, с помощью которого можно было преодолеть внутренние раздоры и компенсировать нарушение чувства идентичности, потерю ориентации и страхи перед будущим.
Вскоре новый национализм обратился и вовне: экономической мощи должна была соответствовать внешняя демонстрация силы. С начала века возникали националистические массовые организации, которые проводили кампании за «германизацию» прусской части Польши, расширение германской колониальной империи, за «мировое значение» Германии и достигли значительной эффективности. Идеологические основы национализма также начали меняться. Хотя Бисмарк, создавая империю, сделал это вразрез со всеми великогерманскими устремлениями и отказался от планов создания пангерманского государства, с начала века подобные цели, выходящие за пределы малогерманской империи, все чаще провозглашались вновь, но теперь уже со ссылкой на то, что немецкий «народ» разбросан по разным государствам и требует единства.
Проявляющаяся здесь связь между антимодернистской критикой и фёлькиш-националистическими тенденциями видна уже у двух старших протагонистов антилиберальной критики культуры, чьи широко читаемые основные работы появились в 1880‑х и 1890‑х годах, – Пауля де Лагарда и Юлиуса Лангбена. Оба они, выступая против бездушного материализма нарождающейся эпохи модерна, проповедовали религию внутренней душевности, искренности и идеализма, которая должна черпать свои силы в «народе». Под «народом» подразумевались не «народные массы» в республиканском смысле – как противоположность «властям» – а члены «нации». Если вначале «народ» еще был скорее культурно понимаемой категорией, то теперь он все чаще переосмысливался как биологическая, «расовая» категория, основанная на происхождении. Это означало, что была найдена естественная, то есть от природы данная, «органическая» категория, которую можно было связать с тоской по исконному, подлинному и противопоставить «механистическим» категориям эпохи модерна, таким как класс или общество46.
Эта идея нашла отражение и в новом законе о германском гражданстве. Поскольку в условиях экономического бума приток иностранных, в основном польских, рабочих в сельское хозяйство и промышленность Восточной Германии продолжал расти, было законодательно установлено, что немцами считаются те, кто произошел от немцев, но не те, кто родился в Германии. Решающим фактором, как подчеркивали немецкие консерваторы при обсуждении закона в рейхстаге, было то, что «происхождение, кровь, является решающим фактором для приобретения гражданства. Это определение прекрасно служит для сохранения и поддержания народного (völkisch) характера и немецкого своеобразия»47.
Определение немца через «кровь» и «расу» могло быть и было обращено против германских евреев. Возникший в империи новый антисемитизм ссылался уже не на религиозные различия и традицию христианской ненависти к иудеям, а все больше на постулируемую биологическую – «расовую» – инаковость евреев. Тем самым был сформулирован постулат о немецком народе как о биологической единице. Налицо было явное отличие от традиционного антисемитизма, который еще основывался на христианском антииудаизме и впервые привлек к себе политическое внимание в ряде антисемитских течений и партий начиная с 1880‑х годов. Но, в то время как этот политический антисемитизм, казалось, после рубежа веков начал утрачивать свое значение, социальный антисемитизм начал, наоборот, распространяться, причем даже в тех социальных слоях, где он ранее не играл большой роли, особенно среди буржуазии образования, интеллектуалов и художников, где он сочетался с критикой цивилизации и культуры модерного общества48.
Довольно типичным примером этого является Людвиг Клагес, один из модных германских философов периода поздней империи. В двадцать с небольшим лет он попал в сферу влияния мюнхенской богемы и ее звезды – Стефана Георге, а затем вскоре вошел в круг так называемых «космистов», которые противопоставляли модерное настоящее как место апокалиптически нарастающего распада, считали себя избранными, первопроходцами и выделяли себя из «массы незначительных людей». В модерном обществе, заявлял Клагес в своих ранних работах, люди больше не живут, а «только существуют, будь то как рабы „профессии“, изнашиваясь подобно станкам на службе больших предприятий, будь то как рабы денег, бессмысленно отдающиеся цифровому бреду акций и предприятий, будь то, наконец, как рабы городского безумия развлечений». Эти распространенные темы критики культуры Клагес объединил с заклинаниями, призванными воссоздать исчезнувший, гармоничный мир «народа» с его праздниками, песнями и костюмами. Вместо них люди теперь получали «в качестве даров „прогресса“ <…> бренди, опиум, сифилис». Людям приходилось терпеть «дымящие трубы, оглушающий шум улиц и светлые, как день, ночи», а также популярные песни, мелодии оперетты и кабаре – а исконная, природная жизнь была, по словам Клагеса, утрачена49.
А главной причиной отчуждения людей от «жизни», продолжал он свою линию рассуждения, стало влияние этно-религиозной группы, которая не опиралась на традиции народа и была чужда ему, – евреев: «Мы считаем те силы и дела, с помощью которых современный мир надеется превзойти старый, включая хваленый прогресс и униформированную мораль, происками главными образом иудаизма», – писал Клагес в 1900 году50. Психологически еврей предстает у него как тип «современного истерика», для которого характерны такие качества, как «потребность в признании его значимости», «тщеславие», «аляповатая внешность», «престижное высокомерие». Это отразилось в «росте литературного потопа», в «рекламе», «газетной шумихе» и «партийной жизни, пронизанной самыми личными сплетнями». Здесь, по словам Клагеса, мы видим «влияние новой, цепкой, но лишенной качества жизненной силы, которую несет неумолимо нахлынувшая стихия этого вырождающегося семитизма»51.
В евреях беспокойные эзотерики, такие как Клагес, нашли объект, на котором могли зафиксировать свои навязчивые мысли о разложении и вырождении. Как и они, немалая часть художественного авангарда, а также молодежного движения в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, окрасилась в фёлькиш-цвета и восприняла антиеврейские убеждения. Но это не было доминирующим – среди множества политико-культурных движений тех лет антисемитизм далеко не определял культурную жизнь на рубеже веков. Что здесь более значимо, так это явно легко устанавливавшаяся связь между критикой эпохи модерна и антисемитизмом, которая, как оказалось, могла соединяться со многими направлениями мысли.
Было много попыток противостоять явлениям эпохи модерна, которые воспринимались как угрожающие и раздражающие, – особенно тем, которые противоречили буржуазным нормам поведения: например, фактическому или кажущемуся росту преступности, проституции, гомосексуальности, «одичания молодежи» и психических заболеваний. Одним из наиболее влиятельных подходов здесь стало распространение социал-дарвинистских концепций и концепций расовой гигиены. Ведь с популяризацией учения Дарвина таким явлениям теперь, как казалось, было найдено объяснение, причем такое, которое выглядело правдоподобным и – что было особенно важно для этого века веры в прогресс и науку – научно обоснованным. По Дарвину, отбор необходим в природе, чтобы уравновесить диспропорцию между избытком потомства и доступными источниками пищи. В борьбе за существование выживают только самые приспособленные, что является необходимым условием для постоянного совершенствования и более высокого развития вида. Эти идеи, согласно которым причина эволюции организмов кроется в «естественном отборе», были самим Дарвином, а в Германии прежде всего Эрнстом Геккелем, позже распространены и на человека52.
Это стало отправной точкой для переноса дарвиновской модели из сферы биологии в сферу общества, причем с характерным сдвигом: теперь в борьбе за существование выживали не наиболее приспособленные, а сильнейшие. Принцип отбора, казалось, всегда определял правила сосуществования людей, однако в Новое время предпосылки для борьбы за существование исчезли – например, из‑за отсутствия голода в результате модернизации сельского хозяйства. В то же время модерная цивилизация посредством медицины, социального обеспечения и благотворительности поддерживала и тех людей, которые ранее проигрывали в этой борьбе и «отсеивались» как слишком слабые. Благодаря этому люди оказались избавлены от необходимости «борьбы за существование», а естественный закон отбора перестал действовать. В результате слабые размножились в значительном количестве, так что основа эволюции – выживание только сильных – перестала действовать. То есть, согласно социал-дарвинистской теории, именно последствия форм государственной помощи нуждающимся и слабым, выработанных на основе буржуазной традиции гуманизма и постулата равенства, с одной стороны, и христианского взгляда на человека как на творение Божье, с другой, угрожали или даже препятствовали дальнейшему и более высокому развитию человечества или народа.
Эти идеи были отчетливо связаны с успехами медицины и гигиенизма в борьбе с основными распространенными в то время заболеваниями. Подобно тому как удавалось теперь распознавать и побеждать болезни человеческого тела посредством научного анализа их причин, можно было, согласно этой идее, точными научными методами бороться и с причинами болезненных явлений в обществе.
Эти идеи в конце XIX века высказывались в самых разных вариантах и относились к различным группам, которые воспринимались как «неполноценные», – от «слабоумных» до людей с врожденными физическими заболеваниями, от «закоренелых преступников» до «неспособных любить» и «некрасивых» людей.
Например, мюнхенский врач Вильгельм Шалльмайер в своем исследовании показал, что модерная система социального обеспечения поддерживает именно те группы населения, которые обладают особенно плохими наследственными предрасположенностями и к тому же рожают особенно большое количество детей. Медицина, писал он, успешно борясь с массовыми заболеваниями, почти полностью нейтрализовала механизмы «естественного отбора», и в результате генофонд немцев в целом ухудшился. Чтобы противодействовать этому, необходимо повысить рождаемость, людей с плохой наследственностью принудительно стерилизовать, а людей с особенно хорошей наследственностью побуждать производить больше детей – например, с помощью налоговых льгот и социальной поддержки53.
Такое мышление встречалось не только в правой части политического спектра. Альфред Гротьян, автор раздела о здравоохранении Гёрлицкой программы СДПГ, также призывал к сегрегации и помещению в приюты тех рабочих, которые были «больны туберкулезом, половыми и нервными заболеваниями, сумасшедших, эпилептиков, слепых и глухих, калек, пристрастившихся к алкоголю, немощных, получивших серьезные травмы в результате несчастных случаев и инвалидов»54. Расовая гигиена и «евгеника» как компоненты социально-биологического мышления были в начале ХX века широко распространены среди социологов, медиков и криминологов во многих западных странах, например в Англии, Скандинавии и, прежде всего, в США, где постулаты расовой гигиены Гальтоновского общества и особенно евгениста Чарльза Б. Девенпорта получили определенное влияние на иммиграционную политику правительства.
Однако подобные идеи повсеместно встречали и решительное сопротивление, как среди гуманистически ориентированных групп, так и в рабочем движении и, прежде всего, в христианских церквях – здесь, правда, со специфическими особенностями: ведь именно церкви рассматривали социальную гигиену и расовую антропологию как часть культурного модерна, против которого они выступали, чтобы сохранить традиционные ценности и моральные ориентации. Поэтому попытки бороться с «болезненными проявлениями» эпохи модерна столь же модерными средствами они рассматривали как обостренное выражение социальных и культурных противоречий рубежа веков.
Если мы сравним процессы, описанные здесь, с тем, что происходило в других европейских странах, мы должны будем сначала подчеркнуть то, что является общим для всех индустриальных европейских обществ: поиск знакомого, стремление сориентироваться перед лицом быстро меняющейся среды – это можно обнаружить как в Германии, так и во Франции, Нидерландах, Австрии, Италии или Великобритании, хотя и с местными отличиями. Появление критики современности и движений за реформы, рабочего движения, антисемитизма и радикального национализма наблюдалось и в других странах – во Франции, в России или Австрии – причем даже сильнее, чем в Германии55.
Особенностью немецкого случая была, прежде всего, стремительность и быстрота этих процессов; в частности, этим объяснялся радикальный характер и возникавших идеологий, и художественных попыток их переработки. В большинстве других стран, как представляется, существовали сдерживающие элементы, которые ослабляли такие движения, замедляли трансформацию или ограничивали ее региональными или социальными сегментами, – например, во Франции, где на значительной части территории страны модернизация в городах долгое время оставалась мало заметной, по крайней мере, гораздо меньше, чем в отдаленных сельских регионах Германии. В Великобритании переход от аграрного к индустриальному обществу произошел почти на пятьдесят лет раньше, и проходил он в течение гораздо более длительного периода времени – с начала XIX до начала XX века. В России модернизация свелась к нескольким островкам развития в море сельской отсталости. Германия, как быстро становится очевидным, с конца XIX века переняла у Великобритании роль лаборатории модерна в Европе, и потому ее развитие было соответственно разнообразным, динамичным и кризисным.
По сей день этот этап истории Германии вызывает необычайный интерес. Мы видим общество, переполненное жизненной силой и сознанием начала нового пути, которое не только за кратчайшее время прошло путь от аграрной, во многом отсталой страны до доминирующей континентальной экономической державы, став мировым лидером почти во всех областях экономики, науки и технологии, но и в течение двадцати пяти лет разыграло, разработало, обсудило и испытало почти все культурные и политические способы реакции и арсеналы основных политических идеологий, сформировавших облик ХХ столетия, и грандиозные проекты культурного модерна вместе с противодействовавшими им движениями.
Конечно, понятно, что в условиях столь динамичных перемен немалая часть населения стремилась прежде всего к безопасности, к уверенности и к стабильности связей. Столкнувшись с совершенно новой средой, которую многие воспринимали как враждебную, многие начинали ориентироваться на прошлое – на традицию, на культурные ценности реально пережитого или желаемого прошлого: это давало им возможность ощутить стабильность и доверие. В то же время, однако, эту переориентацию следует понимать как предпосылку для постепенного процесса интеграции, который происходил на протяжении нескольких поколений и в ходе которого под защитой этих разговоров о традиции происходила постепенная адаптация к новому. Таким образом, период быстрых перемен, начавшийся в 1890 году, можно понимать как фазу долгосрочного, занявшего несколько поколений, процесса трансформации и обучения жизни в формирующемся модерном индустриальном обществе. То, что в ходе этого процесса обучения придется пройти сквозь небывалые кризисы и неудачи, то и дело начинать сначала, было понятно сразу, но насколько глубокими будут эти кризисы, невозможно было ни предвидеть, ни решать.
Германская империя задала действовавшие еще и во второй половине ХX века представления о процветании и успехе немецкого государства, которое характеризовалось, как выразился один из его самых суровых критиков, «высокой степенью правовой безопасности, правами на участие в политической жизни, подобные которым были обеспечены лишь в нескольких западных государствах, а также социальной политикой, какая помимо Германии была только в Австрии и Швейцарии, возможностью решительной критики и успешной оппозиции, свободой мнений с редкими проявлениями цензуры, возможностями получения образования, восходящей социальной мобильностью, ростом благосостояния» и «ощутимо улучшавшимися возможностями для жизни и участия в управлении государством»56.
В то же время, однако, противоречия, которые нарастали в этом обществе, были чрезвычайно сильными и, с учетом описанного развития событий, неизбежными. Выбор способов их разрешения оставался открытым и зависел от множества факторов: во-первых, от сложившейся в стране констелляции политических сил, от которой, в свою очередь, зависело, будет ли в среднесрочной перспективе создана политическая и социальная система компромиссов, способная сглаживать постоянно возникавшие социальные, культурные и политические кризисы. Во-вторых, от экономической конъюнктуры: ведь очевидно, что относительное спокойствие общества эпохи империи имело своей предпосылкой экономический рост, то есть было обеспечено улучшением социального положения, особенно низших социальных слоев. В-третьих, и это самое главное, дальнейшее процветание определялось тем, будет ли у немецкого общества достаточно времени, чтобы пройти через эти процессы трансформаций и обучения.
2. НОВАЯ ИМПЕРИЯ
НАСЛЕДИЕ БИСМАРКА
Когда 20 марта 1890 года молодой кайзер Вильгельм II отправил в отставку канцлера Бисмарка, в Германской империи, которую тот основал и которой жестко управлял в течение двадцати лет, воцарилось чувство облегчения. «Счастье, что мы от него избавились, и многие, многие вопросы теперь будут решаться лучше, честнее, яснее, чем раньше», – со вздохом облегчения заметил, например, Теодор Фонтане1
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Под «модерном» здесь и далее понимается не архитектурный стиль, а вся общественная, политическая, экономическая и культурная эпоха между Промышленной революцией и переходом к постиндустриальному обществу, называемая в немецком языке словом die Moderne. Этому существительному соответствует прилагательное modern, которое здесь переводится как «модерный» (Примеч. пер.).