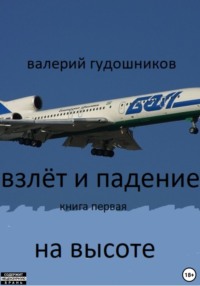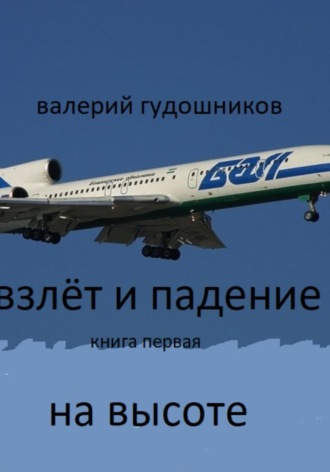
Полная версия
Взлёт и падение. Книга первая. На высоте.
И в этот момент механик доложил о падении давления масла левого двигателя. Во избежание пожара его пришлось выключить. Скорость тут же упала до минимально допустимой. Стало ясно, что при сложившихся обстоятельствах продолжать полёт в облаках в условиях обледенения было равносильно самоубийству. И он принял единственно верное решение: снизиться ниже безопасной высоты полёта и выйти из облачности, где обледенения не было. Конечно, был большой риск столкнуться с землёй или препятствиями, но помогло хорошее знание трассы. Из облаков вывалились метров на сто. До дома они тогда дошли. Зашли на посадку с бреющего полёта, с прямой, не убирая режим работающего двигателя до приземления.
Потом были комиссии и разбирательства. Признали, что в сложившейся ситуации их действия были грамотными.
Отличника Аэрофлота Васин получил за вынужденную посадку на самолете Ту-134. Тогда у них в наборе высоты на семи тысячах метров задымился двигатель из-за разрушения опорного подшипника вала компрессора. Пожар мог привести к печальным последствиям, если бы они затянули полёт ещё на пару минут. Да и какие там минуты, когда счёт шёл на секунды.
Работа пилота-инструктора Васину нравилась. Нравилось наблюдать за работой экипажа в кабине, открывать в людях что-то новое, о чём они и сами раньше не знали, воспитывать личным примером: делай, как я. Иногда и поспорить с лётчиками, доказывая пользу или вред какого-нибудь корявого бюрократического документа. Или досконально разобрать какое-то лётное происшествие, так, чтобы подобное не повторилось. Ведь в авиации, как нигде, нужно учиться на ошибках других, зачастую уже мертвых. Чтобы самому не стать таким же.
Постепенно экипаж начинает смотреть на всё глазами своего командира, становясь, как бы его вторым Я. В сущности это и есть то, что называют слётанностью экипажа. Хороший морально-психологический климат, дисциплина плюс отличное знание своих обязанностей в сочетании с разумной инициативой – это и есть слётанность. И многое тут зависит от командира, его умения работать с людьми на земле и в полёте, понимать их. Осмелюсь привести пример непонимания в кабине. Взлетал в том же Бронске самолёт Ан-24. Погода была хорошая, но дул предельный боковой ветер, как известно, стремящийся стащить самолёт с полосы во время разбега. По инструкции оба лётчика держат ноги и руки на органах управления в любое мгновение готовые страховать друг друга. Но перед взлётом командир объявляет экипажу, кто будет вести активное пилотирование, а кто страховать. В данном случае взлетал командир. Ветер был порывистый, и чтобы удержать самолёт на полосе приходилось довольно энергично работать педалями. И вот на какое-то мгновение нагрузка на рули поворота от порыва ветра значительно возросла. Естественно это передалось на педали. И тогда командир заорал: «Лапти!». Что бы это значило? Что за команда, не предусмотренная никакой технологией? Оказывается, командиру показалось, что педаль надавил второй пилот и «Лапти!» означало: убери ноги с педалей и не дави.
Но второй летчик и не давил. Давил значительно возросший порыв ветра. Сидящий же рядом бортмеханик понял фразу «Лапти!», как команду «Убрать шасси» и, не раздумывая, хватанул рычаг на уборку. А они не набрали ещё скорости подъёма. Что в таких случаях происходит? Самолёт садиться на полосу, но уже без шасси. Это и произошло. Тридцатитонная машина просела и коснулась брюхом бетонки. Жуткий скрежет, фонтаны искр и огня. От трения о бетонные плиты полосы мгновенно вспыхнул пожар. Никто ничего и понять не успел, у всех глаза, как говорят, во флюгер. Остановились, началась экстренная эвакуация пассажиров. Пожар, слава богу, быстро потушили, не дав ему разгореться. Пассажиры отделались испугом. Их пересадили в резервный самолёт и отправили по назначению. А экипаж несколько недель ходил по всяким комиссиям и разборам. В итоге им вырезали талоны нарушений из пилотских свидетельств, вкатили по строгому выговору и удержали часть заработка в счёт погашения ущерба. А потом они долго и мучительно сдавали зачёты. Самолёт же простоял около года.
Оказалось, механик где-то прочитал, что в войну немецкие самолёты Ю-88 (Юнкерсы) за их неубирающиеся, длинные шасси прозвали лапотниками. Шасси, естественно, назывались лаптями. Шасси на Ан-24 тоже длинные, но, увы, убирающиеся.
––
Второй пилот (на данный момент уже командир-стажёр) Эдуард Доронин был из поколения лётчиков семидесятых годов. В свои тридцать два года он имел солидный налёт на Ан-2, Ан-24 и вот теперь на Ту-134. Лётных происшествий по личной вине не имел, о чём свидетельствовал нагрудный знак за безаварийный налёт. Но это опять – таки не означало, что в лётной деятельности его были тишь, гладь и, как говорится, божья благодать. Да и бывает ли такое в жизни пилота?
Сам Эдуард мысленно расставил на своём более, чем десятилетнем пути по дорогам пятого океана несколько вех, когда он мог или лишиться жизни, или лишиться авиации в этой жизни. Первый раз его пытался убить на АХР его первый командир Жора Горюнов, когда они работали на дефолиации хлопчатника в Узбекистане. Как и все недавние выпускники лётных училищ, он почти не представлял себе работу в сельскохозяйственной авиации. Позже понял: представить нельзя, это нужно испытать. В кабине жара ничуть не меньше, чем в полдень в сахаре. Но ладно бы, только жара. Вдыхаемый воздух, пропитанный ядохимикатами, изнурял больше всего. Полёты в пересечённой местности с массой наземных препятствий на пяти метрах над землёй требовали неимоверного внимания. Эдуард уже подумывал, отработав положенные три года, уйти с миром подальше от этого весьма вредного для здоровья и опасного дела. За такие же деньги можно было найти работу менее вредную и опасную. Но в те годы из авиации добровольно мало кто уходил.
Так вот этот Жора Горюнов был отчаянный малый. Летал он красиво, но бесшабашно. Взлетит, бывало, выйдет на гон и давай утюжить хлопковое поле на высоте одного метра, поливая его вихрем ядохимикатов и пугая узбеков сигнальщиков, которые при приближении самолёта в ужасе плашмя падали на землю и закрывали голову руками.
Хотя ниже пяти метров всякие полёты запрещались. Но это ничего, это привычно. Иногда возникала необходимость работать и на метре. Хотя тут уж возникал вопрос; быть или не быть.
А вот не захочется Горюнову высоту набирать, чтобы перелететь высоковольтную линию так он ныряет под неё. Вот бы Чкалов посмотрел! Умер бы от зависти. Это не под мостом пролететь на маленьком одноместном самолёте, который весит с полтонны. А тут многотонная машина на скорости 200 километров несётся на метре над землёй, оставляя за собой сорокаметровый бурунный след химикатов, и ныряет под провода с напряжением каких-нибудь 200 тысяч вольт. Зрелище, скажу вам, не для слабонервных. Тем, кто с земли за этим наблюдает, дурно становится. Не-ет, Чкалов бы точно умер от зависти. И вот в одном из полётов Жорка чего-то задёргался. Слишком уж низко провисали к земле провода. В последний момент он рванул штурвал на себя, но поздно.
Колёсами шасси они зацепили так называемый нулевой провод и оставили весь район без света. По всему району потекли холодильники, жара-то на улице за тридцать. Провод они зацепили очень филигранно самым краем колеса, даже не повредив самолёта. Повезло.
После бурных объяснений с упоминанием отцов и матерей, Эдуард, остыв немного, напомнил Горюнову, что ещё хочет немного пожить на этом свете, и клятвенно заверил: если полёты в подобной аранжировке не прекратятся, он вместо кабины самолёта сядет в автобус и уедет. Горюнов с перепугу обещал чкаловщиной больше не заниматься.
Им тогда здорово повезло. Нимало подобных случаев закончились трагедиями.
Вторая веха на жизненном пути уже командира Ан-2 Доронина осталась стоять на осеннем, только что скошенном колхозном поле, куда он весьма удачно пристроил свою загоревшуюся машину. Комиссия разбиралась недолго, ибо причина – сорванный со шпилек крепления цилиндр – была очевидна. Приказом начальника управления его наградили именными часами, а благодарные пассажиры – это были нефтяники – подарили медвежью шкуру. А ещё он получил право внеочередного переучивания на самолёт Ан-24. Но пролетал на нём не долго, вскоре перейдя на реактивную технику. Не без посторонней помощи.
Ну а о третьей вехе Эдуарда нужно сказать особо. Правда к работе она отношения не имела. На двадцать шестом году жизни он влюбился. Влюбился отчаянно, до крика, до боли в сердце.
Элеонора Лепковская была из семьи давно обрусевших поляков. Отец её занимал важный пост в руководстве областью, мать была директором школы. Увидел он её впервые на пляже, когда в один из немногих жарких дней, совпавшим с его выходным, грел кости на местном пляже, лениво оглядывая окрестности. Через некоторое время недалеко от него устроилась на песке обворожительная девушка. Она курила длинные импортные сигареты и слушала музыку, льющуюся из импортного магнитофона. Ни таких сигарет, ни магнитофона в магазинах нельзя было найти днём с огнём. Но, главное, фея была одна. Белокурая и длинноногая она мгновенно пленила Эдуарда. И некурящий Доронин ощутил мгновенную потребность закурить. Красавица величественным жестом указала на пачку сигарет и отвернулась. Он попытался заговорить, но фея, привстав с песка и грациозно изогнув шею, посмотрела на него таким взглядом, что он почувствовал себя не атлетически сложенным парнем, а каким-то пигмеем. И отошёл на своё место. Но поскольку красавица нравилась ему с каждой минутой всё больше, снова подошёл к ней. Тем более, попытки делал уже не он один.
– А, это опять вы? – пропела фея, приподняв головку. – В следующий раз берите сигарету молча. – Взмахнув длинными ресницами, опустила голову и отвернулась.
В третий раз, когда он подошёл к ней, ехидно осведомилась:
– Опять за сигаретой?
– Да нет, я курю очень редко.
– Нетрудно было догадаться.
– Я хочу предложить вам вместе пойти домой. Скоро начнётся гроза, он показал на мощную кучевую облачность. – Через десять минут здесь здорово польёт. И вы уже не позагораете сегодня.
– А я только что об этом подумала.
Девушка на удивление легко согласилась, и Доронин почувствовал себя счастливым и неотразимым. Они шли, оживлённо болтая. Встречные мужчины бросали на неожиданную любовь Эдуарда плотоядные взгляды и ему хотелось всем им набить морды. У подъезда своего дома она сказала:
– Прощайте, милый попутчик. Вы оказались интересным собеседником. Даже не ожидала.
– Почему прощайте? «До завтра» лучше звучит.
– Завтра я не смогу попасть на пляж.
– Так давайте встретимся в парке?
– Ах, вон вы о чём. Это уже не интересно. – И фея растворилась в подъезде.
Четыре месяца он околачивался у этого подъезда, пока, наконец, фея не обратила на него внимание. А ещё через месяц они уже не могли жить друг без друга. Ещё два месяца ходили, ошалевшие от счастья, а потом, как-то поздним вечером, она затащила его домой, подняла с постели родителей и объявила, что выходит «вот за него» замуж.
Дородная маман Элеоноры, нацепив на нос очки, оценивающе оглядела Эдуарда и внешним видом оказалась довольна. Но смотрела на него так, как смотрят на какую-то мебель, собираясь её купить. Потом глаза её повлажнели, она сказала «Давно пора» и ушла прослезиться в спальню. Младшая сестра Элеоноры – школьница старших классов, захлопала в ладоши и сказала:
– А я вас знаю, вы лётчик.
Папа, как и подобает обкомовскому работнику, сурово и сдержанно пожал ему руку и пригласил поговорить на кухню. Там за рюмкой коньяка Эдуард поведал будущему тестю, что он лётчик, что родителей у него нет – погибли в авиационной катастрофе, когда ему было четырнадцать лет, а других родственников нет. Но что самое главное – он любит Элеонору и хочет на ней жениться.
– Если конечно вы не против нашей женитьбы, – добавил он и скромно потупил взгляд. Обкомовский работник был не против.
На следующий день они пошли в ЗАГС подавать заявление, и там он узнал, что его фея старше его на три года. А когда возвращались обратно она, прижавшись к нему и, скромно потупясь (я должна предупредить), рассказала, что ещё «давным-давно», когда училась в МГУ, была замужем.
– Он был дипломат, имел шикарную квартиру и очень любил меня. Я жила у него два года. А когда закончила учёбу, ему не разрешили взять меня за границу из-за какой-то там секретности.
И предупредила, что родители об этом ничего не знают и знать не должны. Тут бы нажать Доронину на тормоз, остановиться, оглядеться. Но любовь слепа. И удручённый рассказом Элеоноры, он, тем не менее, погладил её по щеке и сказал:
– Успокойся, твой дипломат был дурак.
Свадьба была пышной и весёлой. На следующий день он перебрался из общежития в одну из комнат четырёхкомнатной квартиры её родителей, прихватив с собой чемодан и порядком потрёпанную медвежью шкуру, от которой тёща пришла в ужас.
Громадная квартира была набита коврами, паласами и всевозможной импортной мебелью. Ничего этого в магазинах он никогда не видел. Медвежьей шкуре нашлось месте в кладовке, которая по размерам была больше, чем комната Эдуарда в общежитии.
Первое время он передвигался по этой квартире так, как ходят вокруг гроба покойника во время панихиды. Друзья его теперь навещали редко, а потом и вообще перестали приходить. Даже лучший друг Сашка Ожигалов и тот только иногда звонил по телефону.
На втором году семейной жизни он сделал открытие; его очаровательная жена абсолютно не приспособлена к семейной жизни. А интересовали её только вещи и зарплата Эдуарда. Из-за этого они несколько раз ругались. Родители в их дела старались не вмешиваться, а мирила их всегда сестра Элеоноры Карина. Вскоре он, не без протекции тестя, уехал переучиваться на Ту-134, а когда через три месяца вернулся, Элька была такой радостной и неподдельно счастливой, что на время забылись все ссоры и размолвки.
Так прошло ещё два года. Теща уже не раз намекала, что не против была бы стать бабушкой. Но оказалось, что Элеонора не может забеременеть. И тогда тёща договорилась об аудиенции с каким-то медицинским светилом в звании профессора. Через несколько дней профессор позвонил на работу Эдуарду и попросил заглянуть к нему. Начал издалека.
– Я очень уважаю вашего тестя, – сказал он, – и поэтому не хочу, чтобы о его дочери и вашей жене ходили по городу разные слухи. Дело в том, что ваша жена вряд ли когда сможет родить. Сколько лет вы с ней живете?
Он ответил, что почти четыре года.
– А она ни разу не решалась на аборт?
– Нет, – ответил он. – Я бы знал об этом. Да и зачем ей это?
– Странно. Она мне сказала то же самое. Но я должен вам сказать; мне кажется, что когда-то у неё было неквалифицированное вмешательство, возможно лет 6-8 назад. И только крепкий организм спас её от неприятных последствий. Вы меня понимаете?
Эдуард молча кивнул. Он вспомнил, что ему рассказывала Элька о своей прошлой московской жизни.
– С вашего общего согласия мы можем сделать операцию, но, предупреждаю, успеха может и не быть, – продолжал профессор. – И потом, я должен знать правду о прошлом вашей жены, чтобы решиться на это.
– Спасибо, профессор, мы подумаем об этом.
Резко затормозив у подъезда, он выпрыгнул из машины и, не дожидаясь лифта, побежал на третий этаж. Элеонора только что пришла с работы и переодевалась. Карина, уже студентка Бронского университета, занималась в своей комнате. Родителей, как всегда, не было дома, с работы они возвращались поздно. Немного успокоившись, он спросил жену:
– Ты не могла бы дать мне адрес твоего московского дипломата?
– Зачем он тебе? – искренне удивилась она. – Я его уже забыла.
– Адрес или дипломата?
– И то, и другое, – беззаботно ответила Элеонора. – Да зачем он тебе?
– В Москве у нас смена экипажа. А он всё же дипломат. Может, поможет достать импортную аппаратуру для машины, – солгал Доронин.
– Я попрошу папу, он достанет. Это не проблема.
Он смотрел на красивую фигуру жены и вдруг первый раз поймал себя на мысли, что красота эта его не волнует, как раньше. Да и красота её какая-то холодная, восковая, словно вылепленная искусным ваятелем, но по каким-то причинам не захотевшим вдохнуть в неё душу.
– Нет, – жёстко произнёс он. – Отца просить не надо. Хоть что-то мы должны сами делать? А сейчас расскажи мне всё, что было у тебя с этим дипломатом? Только честно.
– Да ничего особенного. Я же давно тебе всё рассказала.
– Ты рассказала далеко не всё. А о многом просто лгала. Как же нам дальше-то жить, Эля?
Поняв, что он узнал больше, чем хотелось бы ей, она молчала, не зная, что ответить. А он вдруг подумал, что ему до конца жизни предстоит прожить с этой не очень приспособленной к семейной жизни, да к тому же ещё и лживой женщиной. Хотя, чего греха таить, красивой. Но красота её какая-то холодная, она не греет, не волнует душу и кровь. И с равнодушием, удивившим самого, подумал, что вполне может обходиться без неё.
Четыре года он прожил здесь, как бесплатное приложение к этой шикарной квартире то ли в качестве домашнего работника, то ли квартиранта. Правда, опять же не без протекции тестя он уже внёс деньги на кооперативную квартиру. Но что это изменит? Вероятнее всего только ускорит разрыв. А У Саньки Ожигалова скоро второй ребёнок родится. Живёт он, как и раньше, в общежитии в комнате, площадь которой меньше, чем здесь кладовка, где лежит его медвежья шкура. И ведь счастлив Санька.
«А я ведь толком и не знаю, где работает в своём НИИ Элеонора. Кажется, каким-то научным сотрудником», – подумал он.
И вдруг пришло решение. Пришло так быстро, как могут принимать его только лётчики в критической ситуации. Он встал, прошёл в кладовку и нашёл старый свой чемодан.
– Ты… никогда не брал в командировки чемодана, – упавшим голосом, уже догадываясь, что происходит, но, не желая в это верить, произнесла она.
– Ты когда-нибудь бросишь, наконец, курить? – усталым голосом вместо ответа спросил он.
Элеонора шагнула к нему. Сигарета в ее руках немного подрагивала. Она швырнула её в пепельницу.
– Брошу! Я уже бросила. Эдик, не… уходи. Ведь всё же хорошо было. А адрес этого дипломата я тебе дам. Но он, кажется, вовсе никакой не дипломат. Я не знаю…
Открыв ящик стола, она стала лихорадочно выбрасывать из него какие-то брошюры, бумаги и пачки фотографий. Извлекла старую, времён студенческих, записную книжку, полистала её.
– Вот адрес, возьми. Вот. Проспект Вернадского…
Машинально он выдрал из блокнота листок с адресом и сунул в карман. Затем взял чемодан и молча направился к двери. Хорошо, что нет дома родителей. Уже выходя из квартиры, услышал:
– Карина, верни его!
Карина за ним не вышла.
Неделю он прожил в гостинице аэропорта. Проситься снова в общежитие было неудобно, да его бы туда вряд ли приняли. А потом пошли бы всевозможные слухи, чего ему вовсе не хотелось. А кооперативная квартира будет ещё неизвестно когда. Дом ещё строится. И он, не торгуясь, снял комнату в старом городе. Комната была абсолютно пуста. Он поехал и купил раскладушку. На первое время сойдёт. Постельные принадлежности дала хозяйка.
Так Эдуард начал новую жизнь. У Элеоноры хватило мужества не жаловаться ни в партком, ни командирам. Да и тесть, похоже, не звонил по этому поводу Боброву, иначе бы его обязательно начали воспитывать замполиты.
Ему было плохо. Но возвратиться обратно он не смог бы. Черта подведена. Он снова один в этом большом и чужом городе. И никто, даже дружище Ожигалов не может помочь.
Уже поняв, что жить с Элеонорой не сможет и, решившись на развод, он, повинуясь желанию всё доводить до логического конца, слетал в Москву и разыскал дом на проспекте Вернадского. Дверь открыл неопределённого возраста патлатый мужчина с заметным брюшком. Появление человека в летной форме его не удивило.
– Простите, здесь живёт дипломат Полежаев?
– Полежаев живёт здесь, – сверкнул мужчина крепкими зубами, – но кто вам сказал, что он дипломат? Он художник, – и, приглашая пройти, извинился. – У меня мало времени, предстоит деловая встреча. Вы, вероятно, насчет картины?
– Я задержу вас не надолго, – ушёл от прямого ответа Эдуард, проходя в квартиру.
У художника было неплохо. Даже очень неплохо. Шикарная мебель, ковры, импортные вещи.
– У вас изысканно, – оглядывая обстановку, произнёс Доронин.
– Не жалуюсь, – хозяин кивну на кресло, предлагая сесть. – Так вы насчёт картины или… насчёт икон? Кто вас послал?
– Нет, я пришёл передать вам привет.
– Привет? – искренне удивился художник. – От кого же?
– От Элеоноры Лепковской.
– Элеонора, Элеонора, – красиво изогнув бровь, напряг память Полежаев. – Ах, Элька! Сколько лет! И где же она сейчас?
– В Бронске.
– Да, да, припоминаю. А вы откуда её знаете?
– Мы земляки с ней, в школе вместе учились.
– Ясно, – произнёс художник. – Значит, ещё не забыла. Хороша была кошечка, хороша, – причмокнул он губами.– Жила она здесь, квартиру снимала. Я часто в отъездах был, на творческих промыслах, так сказать. Хорошие иконы искали по всей стране. Поэтому ей и представился дипломатом. А потом это безотказно на женский пол действует, особенно на студенток. Кстати, я вам сейчас покажу вашу землячку. Хороша!
Полежаев открыл шкаф и извлёк свёрнутый в трубку холст, тряхнул, разворачивая. С холста, призывно улыбаясь, смотрела обнажённая Элеонора, стоящая у окна. На полу около ног видны трусики и бюстгальтер.
– Ну, как она тебе, твоя землячка? – перешёл вдруг на ты Полежаев. – Несколько таких картин я продал любителям. Ещё кормит меня, – скабрезно улыбнулся хозяин квартиры.
Эдуард едва удерживался от желания врезать художнику между рогов, но рано ещё.
– Да, красивая девочка, – сказал он. – А чего же вы с ней расстались?
– Э-э, – махнул рукой художник, – такие девочки, как Элька, созданы для утех. И не больше. А она после больницы вдруг стала настаивать на женитьбе. А это… сам понимаешь. Пришлось сжигать мосты.
– В больнице-то она долго лежала?
– Долго. Что-то там не сложилось. Ладно, что врач знакомый, выходил. Так он сам же и виноват. Операцию ночью делал, один. Я ему тогда ящик армянского коньяка отвалил. Подождите, а она что же и … это говорила? Кто ты такой?
Эдуард смотрел на художника уже с нескрываемой ненавистью.
– Сколько тебе лет, художник?
– Тридцать восемь. Да в чём дело, чёрт возьми?
– Дело в том, что ты гнида, художник. Гнида и подонок. – Доронин встал с кресла. – И не хочется об тебя руки марать, но память нужно оставить.
И он снизу вверх ударил хозяина в челюсть. Кажется, не зря до училища боксом занимался. Вот где пригодилось. Полежаев отскочил к стене.
– Ты что делаешь, скотина? – взвыл он, хватаясь за челюсть.
– Скотина – это ты!
Во второй удар он вложил всю горечь своей неудавшейся жизни, всё накопившееся отчаяние. Художник распростёрся на ковре в свободной позе.
– Врача бы твоего ещё сюда, да нет времени.
Пошёл на кухню, набрал в бокал воды и плеснул художнику на лицо. Тот зашевелился и замычал.
– Ничего, очухаешься через пять минут. Извини, что деловое свидание сорвал.
И он направился к двери. Но вернулся, взял полотно с изображением жены и некоторое время молча смотрел. А затем с треском разорвал полотно на куски и швырнул на пол. Больше кормить она его не будет.
Через минуту он уже садился в поджидавшее его у подъезда такси.
Разрыв с женой сказался на работе. Веха эта на его жизненном пути тем и характерна. Он едва не расстался с авиацией. От него, как и от всех других лётчиков требовалось одно: нормально работать. Но его словно подменили. От тоски, одиночества и какой-то щемящей безысходности начал прикладываться к бутылке. Собутыльники не заставили себя долго ждать. Деньги у него были.
Опоздал на вылет раз, другой. Потом проспал и вообще не поехал на работу. Ему прощали, зная, чей он зять. Но терпение приходит всему. От него отказался один командир экипажа, затем другой.
Вызвать бы его командиру эскадрильи или замполиту, побеседовать по душам, спросить; что волнует тебя, летчик, что случилось с тобой? Как ты живёшь, и почему вдруг покатился под откос? Ведь есть же какая-то причина. Но не принято это в авиации. Считается, что мужчина сам должен справляться со своими бедами. А собутыльники, вот они, тут, как тут. Психологи доморощенные. Наливают. Пей, парень, это от всех болезней, особенно от душевных. Испытано. Всё пройдет, пей!
И потекли пьяные «задушевные» беседы. И действительно легче становится. Наливайте, вы настоящие друзья. Всё пройдёт! Но болото, как известно, засасывает.
А командирам где же взять время для задушевных бесед. Известно, бумаги заели; планы, графики, наряды, разборы, отчёты, анализы…
Пришло время, и его отстранили от полетов. А чтобы не скучно было, послали в колхоз копать картошку. После колхоза ходил ещё неделю никому не нужный. Про него словно забыли. Но не забыли друзья собутыльники.