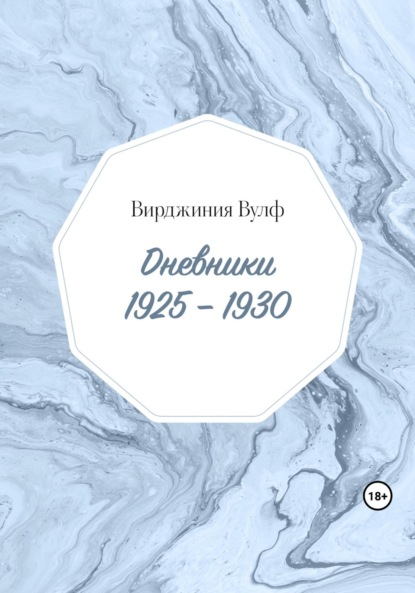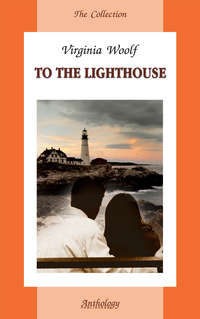Полная версия
Дневники: 1936–1941
Потом на обед приехала Коулфакс – да, свалилась на голову в первый же день нашего приезда, – в черном берете и сером твидовом пальто; сморщенная, как окорок в лавке Флинта [в Льюисе]; не смягченная горем, хотя и постаревшая. Бедняжка; какая черствая натура; потеря Артура135 пробудила в ней лишь слабые, расплывчатые чувства. И все же она, по-моему, храбрится, но остается хозяйкой положения, честолюбивой, беспокойной, неудовлетворенной; вечно гонится за чем-то, словно собака за повозкой, которая едет слишком быстро. А как она огрызается на других собак: миссис Уигрэм136, мадам де Маржери137. Мы мило поговорили о знаменитостях у камина, а потом она ушла. «Rolls-Royce»138 – думаю, она поехала к клиентам139.
В дневнике Вирджинии нет записей за период с 9 апреля по 11 июня. 8 апреля она отправила последние страницы отредактированного машинописного текста романа “Годы” в типографию издательства “Clark”, которое уже возвращало ей предыдущие фрагменты в виде гранок для вычитки. Новость о том, что американское издательство “Harcourt Brace” не сможет опубликовать роман до осени, даровала долгожданную передышку Вирджинии, чья напряженная работа над книгой почти привела ее к нервному срыву с уже знакомыми симптомами в виде головной боли и бессонницы. Она позволила себе 4 недели абсолютного отдыха преимущественно в виде постельного режима в Монкс-хаусе. 3 мая Вулфы вернулись в Лондон, где Вирджинию обследовала ее врач Элинор Рендел, которая одобрила предложение Леонарда сменить обстановку. Соответственно, с 8 по 20 мая, уехав из Родмелла, Вулфы совершили турне по западной части страны, проехав через Уэймут и Лайм-Реджис в Корнуолл, где они пробыли три дня со своими друзьями, Кэ и Уиллом Арнольд-Форстером, близ Сент-Айвса, прежде чем вернуться в Родмелл через Шафтсбери140. 22 мая Вулфы вернулись на Тависток-сквер на неделю, затем снова уехали в Родмелл на двенадцать дней и вернулись в Лондон 10 июня. Эти два месяца, да и последующие, когда скрытая тревожность и депрессия Вирджинии подталкивали ее к самоубийству, позже вспоминались Леонардом как “ужасное время”.
11 июня, четверг.
[Тависток-сквер, 52]
Спустя два месяца я наконец-то могу сделать короткую запись и сказать, что после двух месяцев удручающего и худшего, почти катастрофического приступа болезни – с 1913 года я, по моим ощущениям, никогда не была так близка к пропасти – я снова на коне141. Мне нужно переписать, то есть перекроить и вычитать большую часть гранок романа «Годы». Но погружаться не могу – уделяю книге по часу в день или около того. О, это божественное счастье – снова быть хозяйкой своего разума. Вчера вернулись из Монкс-хауса! Теперь я собираюсь жить как наседка на яйцах, пока не закончу 600 страниц [исправление гранок]. Думаю, что смогу, еще как смогу, но для этого мне потребуется огромное мужество и жизнерадостность. Это, повторюсь, моя первая добровольная запись с 9 апреля, когда я слегла в постель; потом ездили в Корнуолл – никаких записей нет; потом обратно; повидались с Элли142; затем в Монкс-хаус. Вчера вернулись домой – попробуем пожить здесь недели две. Кровь прилила к голове. Сегодня утром закончила «1880» [первая часть романа «Годы»].
21 июня, воскресенье.
Спустя неделю сильных страданий, пыток по утрам, и я не преувеличиваю, у меня разболелась голова – чувство полного отчаяния и провала – мозги как ноздри после сенной лихорадки143 – сейчас опять спокойное тихое утро, ощущение облегчения, передышки, надежды. Только что закончила сцену Робсонов – думаю, она хороша.
Я так скована, так подавлена; не могу делать заметки о жизни. Все распланировано, люки задраены. Спускаюсь сюда на полчаса; поднимаюсь наверх, зачастую в отчаянии, ложусь; гуляю по площади; возвращаюсь и делаю еще десять строк. Вчера были в «Lord’s»144. Постоянное ощущение, будто приходится подавлять себя и контролировать. Вижу людей, которые лежат на диване между чаем и ужином. Роза Маколей. Элизабет Боуэн. Несса. Вчера вечером сидела на площади. Видела, как с зеленых листьев капает вода. Гром и молния. Пурпурное небо. Несса и Анжелика обсуждают [тактовый размер?] 4/8. Вокруг снуют кошки. Л. обедает с Томом145 и Беллой146. Очень странное, на редкость замечательное лето. Новые эмоции: смирение; искренняя радость; литературное отчаяние. Я учусь своему ремеслу в тяжелейших условиях. И действительно, читая письма Флобера147, я слышу собственный голос, восклицающий: «О искусство! Терпение. Пусть оно утешает, пусть увещевает». Я должна спокойно и смело довести книгу до ума. Но она выйдет только в следующем году. И все же я думаю, что у романа есть потенциал – нужно лишь раскрыть его. Пытаюсь написать глубокий и внятный портрет персонажей одной фразой; сократить и уплотнить сцены; собрать все воедино.
23 июня, вторник.
Хороший день – плохой день – и так далее. Мало кто страдает от писательства так, как я. Пожалуй, лишь Флобер. И все же я поняла, как доделать книгу; думаю, что смогу закончить ее, если только мне хватит терпения и мужества спокойно воспринимать каждую сцену в отдельности и композицию в целом. Думаю, книга может получиться хорошей. А потом – ох, когда она уже закончится!
Сегодня не лучший день, потому что я ходила к дантисту, а потом за покупками. Мой мозг как весы: любая мелочь, и уже перевес. Вчера было равновесие, а сегодня перевес.
В дневнике Вирджинии нет записей за период с 23 июня по 30 октября. Состояние ее здоровья оставалось нестабильным, а тяготы жизни в Лондоне, где обезумевшие и крикливые политики, как ей казалось, постоянно проводили совещания в их доме, заставили Вулфов уехать в Родмелл раньше обычного, 9 июля. Там они и оставались, еженедельно выезжая в Лондон, до 11 октября. Вирджиния отдыхала, бесцельно читала, играла в буль и гуляла, а по возможности, не больше часа в день, работала над гранками романа “Годы”, все еще надеясь подготовить его к публикации в “Hogarth Press” осенью, но к концу августа стало очевидно, что ей это не по силам. Письма Вирджинии, адресованные в основном неутомимой Этель Смит, лучше всего передают атмосферу этого тяжелого периода. Когда Вирджиния вернулась в Лондон, ее здоровье значительно улучшилось; она снова смогла вести относительно нормальную жизнь, однако недоделанные гранки по-прежнему висели над ней дамокловым мечом.
Октябрь 1936
30 октября, пятница.
Я не хочу сейчас описывать, что было в эти месяцы с момента последней записи. И у меня есть причины, которые я не могу сейчас раскрыть, почему мне не хочется анализировать это необыкновенное лето. Полезнее для моего здоровья будет писать сцены; браться за перо и описывать реальные события – хорошая практика для моего спотыкающегося и застревающего пера. Могу ли я еще писать? – вот в чем, собственно, вопрос. А теперь попытаюсь понять, умер мой дар или спит.
Во вторник, 27 октября, я ходила на чай к Сивилле148. Был очень ветреный и сырой вечер; листья кружились по тротуару; люди придерживали шляпы и юбки. Дверь открыл пожилой потрепанный мужчина в поношенной повседневной одежде. Может, судебный пристав – нет, скорее это был помощник аукциониста. «Леди Коулфакс дома?» – спросила я. Он покачал головой. Подумал, что я пришла посмотреть мебель. «Проходите», – сказал он и повел меня, вернее скрылся в темноте, в комнату для прислуги – в неведомое мне прежде место, где было приготовлено так много блюд, а разносила их Филдинг [горничная], сдержанная, почтительная и радушная. Теперь же там были столы, уставленные обеденными сервизами, связками ножей и вилок – все с ярлыками и этикетками. Из кладовки вышла Филдинг, все еще в сером платье и фартуке, но невнятная, взволнованная. «Я не знаю, куда вас посадить», – нервно сказала она и, пробормотав что-то о поисках ее светлости, о том, что люди еще здесь, извиняясь, повела меня в столовую. Мебель в этой комнате, коричневой, праздничной и в каком-то смысле яркой, тоже была выставлена на продажу. Стол из орехового дерева, маленькие стеклянные деревца на каминной полке и люстра также были с ярлыками. Приятная теплая комната, думала я, усаживаясь на один из коричневых стульев и размышляя о том, какой застенчивой я когда-то была и какой радостной, когда, наконец, преодолела страх перед прической и одеждой; каким острым стал мой язык и как мало меня волнует разговор с сэром Артуром справа и Джорджем Муром149 или Ноэлем Кауардом150 слева. Да, я испытывала смесь облегчения от того, как мало у меня теперь страхов, и удовольствия от желания много чего сказать, когда в гостиную осторожно заглянул незнакомец, прицениваясь и рассматривая вещи, которые он, возможно, захочет купить, – явный чужак, джентльмен в коричневом пальто, кто-то, кого можно встретить на распродажах, но не на вечеринках в Аргайл-хаусе. И не успел он приступить к осмотру мебели, как в комнату заглянули две модные, смутно знакомые женщины; одна из них, та, что поменьше, симпатичная, узнала меня, улыбнулась и протянула руку, но вот мое имя она явно забыла. А ее, по-моему, зовут Эва Уигрэм. «Как же грустно, очень грустно», – сказала она (эти же слова я употребила в адрес трепетной и взволнованной Филдинг, которая – и Эва согласилась со мной, – казалось, вот-вот разрыдается). «Да, грустно, очень грустно…» – повторила я. Потом она спросила, не пришла ли я посмотреть вещи, ведь я сидела на стуле и как будто чего-то ждала. «Нет, я пришла повидать Сивиллу», – ответила я, а они стали осматривать комнату. Думаю, Эва была удивлена, а возможно, и недовольна таким намеком на близость с хозяйкой. Женщины неуверенно расхаживали по столовой, трогая то одно, то другое, и перешли в соседнюю комнату, откуда Сивилла украдкой выглянула и позвала меня, будто бы приглашая на тайную личную встречу и спеша оставить мир, теперь жестокий, а не дружелюбный по отношению к ней. И вот мы перешли в гостиную, где, вздохнув и попытавшись что-то объяснить, она закрыла дверь и опустилась на диван.
Моя рука без перчатки на мгновение легла на ее голую руку. Сочувствие, подумала я, но решила не подчеркивать и не затягивать свой жест. Она напоминала изможденную птицу; морщины по всему лицу. Под глазами – глубокие впадины. Но говорила она, конечно, по делу.
– Кто это был в столовой?
– Эва Уигрэм.
– О боже, она меня заметила?
– Нет, думаю, что нет. Но Сивилла, разве ты не должна отдыхать?
– Дорогая моя, как же я могу отдыхать? И личный врач, и хирург велели мне взять отпуск на 6 месяцев. Но я же не Грета Гарбо151… Где чай?
Принесли чай, хлеб с маслом и пряники.
– Нет, все называют Филдинг прислугой. Тебе-то я могу сказать правду. Я тридцать пять лет прожила с ирландкой. Она то смеется, то плачет.
– Но Сивилла, – сказала я, пытаясь хоть как-то выразить симпатию или сочувствие, – ты посвящала себя… Да, проходя мимо этого дома и видя огни, я часто думала об этом…
– О, тогда я была миллионершей. Что мне оставалось, кроме как отдавать?
В мой адрес посыпались комплименты, но я отнеслась к ним пренебрежительно.
– Вы посвящали себя живым людям… Именно у вас я познакомилась с Арнольдом Беннеттом, Джорджем Муром, Ноэлем Кауардом…
Открылась дверь…
– Леди Мэри Чамли152, миледи.
– Кто? Я не знаю такой особы… Извини, пойду и узнаю сама…
И она не хочет портить свою внешность очками. Я говорю, что не против носить их целый день… (а она не хочет). О чем еще говорили?
– Да, мне нравится думать о тех, кого вы назвали… Рада, что мы выпили чаю – все это ужасно. Не могу ни с кем разговаривать. Продолжаю жить. Не позволяю себе зацикливаться, иначе погружусь в такое уныние… Мне никогда не оправиться. Есть старые тетушки, Веджвуды. Они знали нас молодыми, когда мы были помолвлены. Да. Я продолжаю жить, переходя от одного дела к другому.
Вошли Эва и другая женщина. Светская беседа. «Еще увидимся».
– Ох уж эта женщина. Она мне не нравится.
– Мне тоже, потому что вызывает неприязнь, а я не люблю, когда мне не нравятся люди.
Это правда. Истории о подлости Эвы в отношении Литтонов и о доме на Норт-стрит. О том, как она заполучила его на £700 дешевле.
– Когда я очнулась от наркоза, Майкл153 сказал мне, что дома больше нет. Я ответила, что это просто не наш год, вот и все. Не наш год. После этого я купила дом на £700 дороже, чем хотела, – из-за Литтонов, а еще там жил сумасшедший, который зарос грязью154. Мне всегда хотелось иметь возможность говорить, что если вам нужно с кем-то познакомиться, то я легко это устрою. Мне нравится сводить людей… Сейчас я собираюсь сделать две вещи. Собрать антологию любовной поэзии. Не странно ли это? Когда мне было 18 лет, я читала стихи и думала, что все понимаю. В 18 лет – когда и жизни-то не знаешь. Хочу собрать эту антологию для влюбленных. В больнице я перебирала старые письма – записки от Арнольда Беннетта и Уолтера Рэлея155.
Перейдем от диалога к повествованию.
Она говорила рассеянно и нервно, как курица, порхающая над краем пропасти. Смелая курица. Ее глаза сияли. Ходят слухи, что у нее рак груди. Я тоже не всегда могу отличить позерство – мол, выставлю себя перед Вирджинией поэтичной и неземной – от подлинной галантности. Она слишком долго жила при искусственном свете и уже не может без него. Она как летучая мышь, которую из ярко освещенной комнаты поместили в темноту. Она ослеплена темнотой, то есть одиночеством, отсутствием стимулов и взглядов других людей, задающих направление; она ни в чем не уверена. Барахтается. У нас же все наоборот. Но независимо от того, показалось мне или нет, я чувствовала в ней что-то искреннее: желание бороться с невзгодами и сиюминутный порыв сломаться, – но потом она опять вставала и уходила. Когда дверь открылась и Филдинг прохрипела: «Машина, миледи», – она обрадовалась призыву к действию, и мы понеслись по освещенным ветреным улицам, сидя вместе в «Rolls-Royce», пока она рассказывала истории, внятно и даже блестяще, о Джордже Муре и Уэллсе156, о Генри Джеймсе157 и Кэрри Балестье158. Машина снова взревела после короткой остановки – Сивилла выскочила на Маунт-стрит, чтобы нанести деловой визит. Потом она собиралась на концерт и на званый ужин.
Но в этой наспех рассказанной истории я забыла описать свое прощание с Аргайл-хаусом, когда мы вместе с Сивиллой вышли из двойных дверей, спустились по маленькой дорожке и на мгновение остановились у кованых железных ворот.
3 ноября, вторник.
Чудеса никогда не иссякнут – Л. и правда нравятся «Годы»! Он считает, что пока, вплоть до главы «Ветер» [«1908»], роман не уступает ни одной из моих книг. Изложу факты. В воскресенье я начала читать гранки. Когда закончила первую часть, меня охватило отчаяние, гнетущее, но не безнадежное. Вчера заставила себя дочитать до «Наших дней». Дойдя до этого места, я поняла: все настолько плохо, что и думать нечего. Отнесу Л. эту «дохлую кошку» и скажу, чтобы гранки сжег не читая. Так я и сделала. Будто гора с плеч. Это правда. Я почувствовала свободу от какой-то тяжкой ноши. Было холодно, сухо и очень серо; я вышла на улицу и прошлась по кладбищу, мимо гробницы дочери Кромвеля159, по Грэйс-Инн-роуд, вдоль Холборна и обратно. В тот момент я была не Вирджинией, гением, а всего лишь незначительным, но удовлетворенным духом или телом – как это назвать? И вымотанной. И очень старой. Но в то же время довольной тем, что пожила свое с Леонардом. Потом мы обедали в гнетущей, мрачной атмосфере, и я сказала Л., что напишу Ричмонду160 и попрошу книги для рецензирования. Гранки, полагаю, будут стоить от двухсот до трехсот фунтов, и я заплачу за них сама. У меня есть £700 в запасе, а значит, останется £400. Но я не была несчастна. Л. ответил, что я, по его мнению, могу и заблуждаться насчет книги. Затем прибыло множество странных людей: мистер Мамфорд161, худощавый, цвета красного дерева, в очень жестком котелке и с тростью; я проводила его в гостиную и угостила сигаретой); мистер [?], очень крупный и грузный, стучавший в дверь и говоривший «помилуйте». Лорд162 и леди Сесил163 позвонили, чтобы пригласить нас на обед и познакомить с испанским послом164. (Пишу «Три гинеи».) Потом, после чая, мы отправились на книжную выставку «Sunday Times»165. Как же там было душно! Я чувствовала себя убитой – уставшей до смерти! Подошла мисс Уайт166, маленькая суровая женщина с неестественно веселым лицом, и рассказала о своей книге и рецензиях. Потом подошла Урсула Стрэйчи167 из «Duckworth»168 и сказала: «Вы разве не знаете, кто я такая?» И я вспомнила реку, залитую лунным светом. И тут Роджер Сенхаус169 похлопал меня по плечу. Мы пошли домой, где Л. читал, читал и читал, но ничего не говорил; я начала впадать в тяжелую депрессию; могла же написать «Годы» иначе – придумала форму для другой книги – она должна быть написана от первого лица. Может, это подойдет для «Роджера»? И погрузилась в один из своих ужасных приступов жара и глубокой дремоты, как будто мне перекрыли кровоток к голове. Внезапно Л. отложил гранки и сказал, что считает книгу необычайно хорошей – не хуже всех предыдущих. Сейчас он читает дальше, а я, уставшая от работы над романом, пойду наверх и почитаю кого-то из итальянцев.
4 ноября, среда.
Л., дочитавший главу «1914», по-прежнему считает роман необычайно хорошим; очень странным; очень интересным; очень грустным. Мы обсудили мою грусть… Но проблема в том, что я не могу заставить себя поверить в его правоту. Быть может, я преувеличила плохость книги, а он, обнаружив, что она не так уж и плоха, теперь завышает свою оценку, но если ее публиковать, то мне надо немедленно садиться и править, – способна ли я? Каждое второе предложение кажется ужасным. Но я откладываю этот до тех пор, пока Л. не закончит читать, то есть до сегодняшнего вечера. Сейчас я должна переписать статью для «Daily Worker»; затем придет Э. Уотсон170, а потом будет обед с Кэ171. С такими трудностями я еще не сталкивалась. Конечно, мы можем обратиться к Моргану [за советом?].
5 ноября, четверг.
Чудо свершилось. Л. отложил последнюю страницу около полуночи и не мог вымолвить ни слова. Он был в слезах. Говорит, что «это замечательная книга» и что она «нравится ему больше “Волн”», и у него нет ни капли сомнения в том, что ее надо публиковать. Как свидетель не только его эмоций, но и увлеченности книгой, ведь Л. читал внимательно и долго, сомневаться в его мнении я не могу. А как насчет моего собственного? В любом случае это был момент божественного облегчения. До сих пор толком не понимаю, стою я на ногах или на голове – так поразительно все переменилось с утра вторника. Никогда прежде не было у меня такого опыта. Сейчас льет дождь, а мы собираемся в Льюис на фейерверк172. Вчера были Э. Уотсон и Кэ; книжная выставка; прогулка в одиночестве по Виктория-стрит и так далее.
9 ноября, понедельник.
Я должна принять кое-какие решения по поводу этой книги. Я нахожу ее чрезвычайно трудной. Я впадаю в отчаяние. Все кажется очень плохим. Цепляюсь за вердикт Л. Потом отвлекаюсь: пыталась в качестве лекарства взяться за статью; за мемуары; за рецензию книги для «Listener»173. Все это заставляет мой разум метаться. Надо сосредоточиться на «Годах»: закончить с гранками и отправить их. Думаю, единственный выход – сделать это, а уже потом позволить себе заниматься чем-то еще между чаем и ужином. Сейчас надо погружаться по утрам в «Годы» – и больше ничего. Над трудными главами можно работать по чуть-чуть, с перерывами. Но не браться за другую работу до чая. Когда все будет готово, мы всегда сможем обратиться к Моргану [за советом?].
10 ноября, вторник.
В целом сегодняшнее утро прошло лучше. Правда, мой мозг так устал от этой работы, что голова начинает болеть уже через час или даже меньше. Приходится осторожничать и не перенапрягаться. Да, думаю, книга по-своему хороша, хоть и трудна.
Вчера на чай приходил Барнс174; впадающий в крайности, весьма деловитый молодой человек. Напряженный; сдерживающийся; сильно обремененный своей работой и моральным долгом поддерживать уровень Би-би-си в соответствии с кембриджскими стандартами. Приятный старомодный молодой человек из Кембриджа.
Перед этим я встретилась с Л. в «Red Lyon»175, а еще к нам присоединился Кингсли176: по-моему, у него лицом землистого цвета, а вид опустошенный, нездоровый. Моя жалость, разумеется, вышла наружу, а он, конечно же, попросил меня отрецензировать «Автобиографию» Честертона177, которую принес с собой. Я, несомненно, могла бы зарабатывать на жизнь этим, прими я такое решение. На самом деле, старые фонтаны только и ждут, чтобы из них вырвался этот литературный поток. Интересно, страдал ли кто-нибудь когда-нибудь так сильно от книги, как я от романа «Годы»? Как только книга выйдет в свет, я больше никогда на нее не взгляну. Это как долгие роды. Вспомните прошлое лето: каждое утро болела голова, а я заставляла себя идти в кабинет в ночной рубашке, и ложилась после каждой страницы, и всегда была уверена в провале. Теперь эта уверенность, к счастью, в какой-то степени устранена. Однако сейчас мне как будто все равно, что скажут другие, лишь бы избавиться от книги. И я почему-то чувствую, что меня уважают и любят. Но это всего лишь переменчивый танец иллюзий. Никогда больше не напишу длинную книгу. И все же я чувствую, что буду писать больше художественной прозы, а сцены начнут складываться сами собой. Но сегодня утром я истощена: слишком много напряжения и беготни накануне. Статья для «Daily Worker». Мадрид не пал. Хаос. Бойня. Война вокруг нашего острова178. Морон179 и Д. Бренан180. Сегодня вечером ужинаем с Адрианом.
11 ноября, среда.
День перемирия181, совершенно забытый нами. Я работаю спокойно, стыдясь своей чрезмерной неторопливости. Не могу даже отрецензировать «Мисс Уитон». Джо [Экерли] разрешил мне 800 слов анонимно и 1500 слов от своего имени. Забавная иллюстрация достоинств капитализма. Им нужна реклама, а не статья. А мне реклама не нужна. Но в любом случае книга в целом плоха, и втискивать «Мисс Уитон182» в 800 слов нет смысла ни с точки зрения вечности, ни по какой-либо другой причине. Именно. Стоит получить книгу, и желание рецензировать угасает во мне. По-своему любопытное наблюдение. И я в очередной раз поняла, что надо заниматься собственными проектами.
Вчера вечером ужинала с Адрианом; у него был солидный господин по имени Рикман183. А. и Карин очень активны и дружелюбны, и оба, похоже, наслаждаются жизнью больше, чем раньше. А. очень худой, хрупкий и замечательный. В целом он в гуще событий и не такой отстраненный, как прежде. Много говорили о психоанализе, и мне это понравилось. Не всегда же обсуждать политику – благодать. Перед самым уходом Л., кстати, отложил книгу Берти184 и сказал: «Все ясно». Он стал изоляционистом. Чувствую, что и я была такой на протяжении последних месяцев, но по другим причинам, в которых хочу разобраться. Но не здесь. Семья Рикмана всегда жила в Льюисе, и он помнил бурные празднования в Ночь Гая Фокса, когда приходилось носить очки и мокрую солому. К. рада, что заработала £800, – вечно она чем-то недовольна и постоянно это подчеркивает. Но и я уже не такая придирчивая. Я не сделала ни одной страницы сегодня, и это хуже всего, надеюсь…
13 ноября, пятница.
Еще один приступ депрессии, в значительной степени, полагаю, обусловленный ужином с Аликс и Джеймсом [Стрэйчи] вчера вечером.
17 ноября, вторник.
На чай приходил лорд Сесил. Он поправился, но все еще сохранил угловатые неловкие движения худого человека. Лицо стало круглым, как луна, и цвета кофе с молоком, а раньше было худым и мертвенно-бледным. Стал добродушнее. Действительно, он стал и объемнее, и непринужденнее. Светский человек. На затылке редкая поросль все еще каштановых и очень тонких волос. Яркие веселые глаза. Хорошее настроение наперекор всем. Вот он говорил: «Думаю, и в людях, и в учреждениях больше жизненной силы, чем кажется. Мы потерпели неудачу (с Лигой Наций)185 – неважно, мы обязаны попытаться снова. Я убежденный сторонник Уинстона186. Союз Франции, Англии и России. Б. Рассел – безумец. Полное безумие! Убеждать нас подчиниться Гитлеру?! Подчиняться Гитлеру?! А ты что думаешь, Салли?» Погладил Салли [собаку] своими длинными костлявыми пальцами. Он выступал в Манчестере. Повторяя аргументы Берти, он видел, как люди хмурились. Лорд-мэр Манчестера сказал: «Мы хотим видеть Далтона187 лидером». [Возможно, дальше следует речь лорда Сесила] Эттли188 – серый человек. Говорит, что политическое чутье людей безошибочно. Один рабочий сказал другому, что Ванситтарт189 слишком много о себе возомнил. Так и есть. Ванситтарт управлял Саймоном190. Саймон – худший министр иностранных дел за всю историю. Хоар191 – полное разочарование. Надо было поставить Галифакса192. Не гений, но смельчак. Иден193 молод, беден, амбициозен; его интересует только политика. Человеческая природа такова, какова она есть, поэтому… Нет, об Идене четкого мнения нет. Ему надо был уйти в отставку. Страна видит его насквозь. Конечно, ему очень трудно понять, когда пора уходить в отставку. Филу Бейкеру194 нужно умерить пыл вдвое и пить вино. Он любимчик – приятели из Казначейства сделают для него все. Но он диктует письма, сидя за рулем.