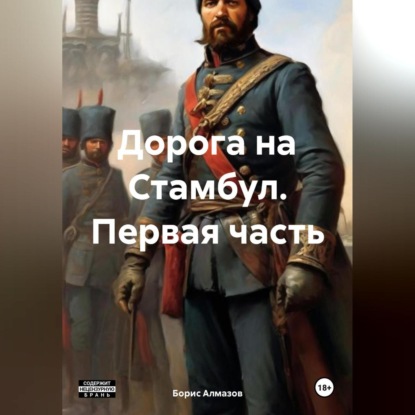Полная версия
Дорога на Стамбул. Первая часть
– Да возьмите вы его, весь дом провонял, как на живодерне!
Пришлось взять.
Наловить рассчитывали основательно, потому запрягли старую кобылу Ласточку и припасли пяток ведерных корзин.
Васятка как овод вился около Осипа и путался под ногами, но старался изо всех сил чем-нибудь пособить.
Осип не гнал его, изредка похлопывая по заросшему затылку или нажимая, как на кнопку, на конопатый облупленный нос. Васятка, не избалованный отцовской лаской, млел.
Осипа он обожал. Ему нравилось в этом рослом веселом и крепком казаке все. И то, как Осип ходит, чуть раскачиваясь по-кавалерийски, и как поет, и как запрягает лошадь, а уж когда казак брал в руки хищно отточенную шашку, Васяткина душа воспаряла от восторга под небеса. Да честно сказать, даже видавшие виды старики останавливались у плетня посмотреть и одобрительно кивали головами:
– Картина!
– Ну что, Василь Демьяныч! – сказал Осип хозяйскому поскребышу. – Говоришь, наловим раков-то?
– Должны! – преданно выдохнул Васятка.
– Ну раз должны, тогда конечно… – приговаривал казак, оправляя упряжь.
Настенька вынесла четырехугольную корзинку с крышкой, туго набитую снедью.
Казак перехватил поклажу и поставил в телегу.
– Ого! – сказал он. – Да тут столько, что нам и за всю ночь не съесть! Тут и раков ловить некогда…
– Управимся! – солидно сказал Васятка.
– Ну давай ты будешь раков ловить, а я припасы подъедать, – засмеялся Осип, – как раз и ладно будет.
– Настасья Демьянна, – сказал он девочке. – Айда с нами раков ловить?
Настенька густо покраснела и ничего не ответила. только на кончиках ее длиннющих темных ресниц задрожали две мелкие слезинки. Подавив вздох, она взбежала на крыльцо и, мотнув толстой косой с голубой девичьей лентой, захлопнула за собой дверь.
– Ай я не так сказал? – удивился Осип, подхватывая Васятку и сажая его на телегу.
– Да нет! – зашептал мальчишка, обнимая казака за крепкую шею. – Она вон как просилася, а мамынька не велит!
– Через чего же?
– У нее знаешь… – Васятка защекотал губами Осипово ухо с тяжелой серебряной серьгой. – У нее титьки зачали расти!
– Чего? – не понял Осип.
– Тить-ки! – по складам объяснил Васятка.
– Каки таки?!
– Бабские! Правда-правда! Я сам видал! Она теперь купается отдельно и в рубахе… Опосля стала отжиматься, а я из кустов-то и сосмотрел… Точно! Растут.
Осип хлопнул себя по бокам и захохотал.
– Что, не веришь? Не веришь? Махоньки таки, как у нас с тобой, но только на бугорках…
– «Сосмотрел»? – стонал Осип, колотя от смеха лбом в шею старой лошади. – Ну, ты пластун! Ну, разведчик…
– Да и так видать! – толковал Васятка. – Ты приглядись! Они под платишком-то торчат! Дай срок, таки вырастут, вдарит – ворота расшибет…
– Ой, не могу!.. Ой, мои батюшки… – выл Осип.
– Это вы чего? – Никита вынес пучок удочек. – Чего ты регочешь?
Васятка сделал Осипу страшные глаза – мол, молчи! Не сказывай.
– Да это мы так, промеж себя… – ответил Осип, смахивая выступившие от смеха слезы.
– Вот, братец ты мой, Василь Демьяныч, а давно ль я ее Домне Платонне мыть помогал? Бывало, воды в котле нагрею в летней-то кухне и купаем в корыте… А она улыбается, беззубая, лысая, нравится ей… А теперь, вон поди ж ты, барышня! Ну, поехали, что ли? – спросил он, разбирая вожжи и вскакивая боком на телегу.
– Васятка! – закричала из окна, высунув голову поверх занавески и бальзаминов, Домна Платонна. – Один в воду лезть не моги и от Осипа ни на шаг! Ты слышишь ай нет?! Чай божился!
– Слышу, слышу… – пробурчал мальчишка.
– Ребята! Осип! Никита!
– Да ладно вам, маманя! – отмахнулся Никита. – Уж сто раз говорено.
– Не извольте беспокоиться! Будет как кредитный билет в банке! В полной сохранности! – крикнул Осип. – Ннннууу!
Телега заскрипела, тронулась.
– В добрый час! – сказала, крестя их на дорогу, нянька Макаровна, растворявшая ворота.
– «Из-за леса, леса копий и мечей!» – запел Осип. И Никита с Васяткой подхватили, легко разбираясь по голосам:
– «Едет сотня казаков-лихачей!»
– «Аааааай, говори!» – повел низами Осип. И братья грянули во всю силу легких, так что во дворах залаяли собаки:
– «Едет сотня казаков-лихачей!»
Песня считалась новой, ее привезли казаки с «Кавказского театра», как называли затяжную и кровавую войну с непокорными горцами Кавказа, что, то затухая, то разгораясь, тянулась уже не первый десяток лет.
На завалах мы стояли как стена,
Стенка алыми цветочками цвела… —
распевали казаки, не вдумываясь в страшную точность этого поэтического образа пули, хлестнувшей в чью-то грудь в белой гимнастической рубахе, поскольку бурки и мундиры были сброшены – рукопашная…
А кто первый до засеки добежит,
Тому орден, честь и слава надлежит…
А кто не добежит? Кто рухнет оземь, наткнувшись на безжалостный свинец или на клинок горца?.. О том не думалось. С готовностью отдаваясь власти песни, парни выехали за слободу и покатили по остывающей от дневного жара дороге, покрытой невесомой черноземной пылью, под которой, как в печи под пеплом, еще таилось тепло.
Они миновали разъезд, который хоть и был сменен, но все одно торчал на прежнем месте, перекрывая дорогу. Причем все трое из разъезда приняли живейшее участие в рассуждении на тему, куда ехать, где самые рачные места. И разумеется, все трое показывали в три разные стороны.
Раколовы уже давно отъехали, а пикетчики все еще орали друг на друга, тыкая нагайками по направлениям к одним им известным обильным речным местам.
Уже темнело, и, пока они распрягали лошадь, устраивали на поднятых тележных оглоблях балаган из большого куска парусины, пала ночь. Закидывали рачницы, разводили костер из сухих ивовых корней, вымытых из-под берега труженицей Собенью, уже в темноте.
Осип зажег припасенный факел из смолья и вместе с Васяткой отправился побродить по отлогому берегу Собени – поискать еще топляка на костер, чтобы не подкидывать сухую траву, а понежиться в безделье у неторопливого огонька.
Вода в реке была уже по-осеннему холодной, и Васятка, несший факел, поджимал босые ступни, как гусь шлепая по воде. Осип же ходил босиком с удовольствием; четыре года отбухав в тяжких кавалерийских сапогах, он с наслаждением давал волю и отдых поковерканным тесной обувью ступням, отвыкшим от речной прохлады, шелка прибрежного песка и атласа глинистого дна.
Поначалу они с Васяткой жадничали – совали в вязанку каждую хворостину, но потом наткнулись на целое корявое бревно, отрыли его из сухого песка и поволокли к костру.
У белеющего, будто парус, балагана они увидели не только Никиту, которого оставили следить за огнем и готовить ужин, но и еще двух незнакомцев.
– Вот… – сказал один из них, здороваясь, – попросились на огонек.
– Милости просим, повечеряйте с нами, – пригласил Осип.
– С удовольствием.
Никита разлил в кружки чай и подал гостям. Осип достал из корзины съестное.
По тому, как незнакомцы жадно набросились на еду, Осип понял, что они очень давно не ели. «Кто это? Что за люди? – подумал казак. – Что делают ночною порой в степи? Почему с ними нет никаких вещей?»
Но старинный неписаный этикет не позволял задавать никаких вопросов, пока гость не начинал рассказывать сам.
Васятка, улучив момент, зашептал Осипу:
– Ось! Чой-то я их опасаюся… Вона как трескают! Может, беглые. Разбойники каки…
– Не похоже! – сказал казак, однако достал из-под сена в телеге нагайку и надел на правую руку.
Один из гостей заметил и, уплетая пирожки, улыбнулся.
– Без этого инструмента даже раков не ловите?
– Нам так привычней! – в тон ему ответил Осип.
– Вот, Генчо! Смотри. Настоящая казачья нагайка. Можно сказать, символ Войска Донского и порядка Российской империи.
– Я знаю. Это такой плеть! – сказал с незнакомым акцентом второй гость – черноволосый и темноглазый с густой черной бородкой.
– Нет, дорогой! – сказал первый незнакомец. – Она только по виду плеть, а на самом деле покрепче шашки будет! Так я говорю?
– Для иных причин… – ответил Осип, которому был неприятен этот разговор и этот словоохотливый человек в городском пиджаке, в студенческих брюках, заправленных в высокие сапоги.
– Да, – продолжал говорливый, – я с этим инструментом правопорядка очень хорошо знаком… Сколько в ней весу-то?
– Эта легкая…
– Ну да… я и говорю – игрушечка. Изготовляется, если я не ошибаюсь, так: стальной трос, костяная рукоятка, все это оплетается кожей, а на конце в специальном мешочке пуля или рубленый свинец. Так?
Осип кивнул.
– А зачем такая?
– На волков, – ответил нехотя Осип. – Или ежели в бою – кирасир. Его шашкой не возьмешь, а тут вдаришь по каске, он и готов… Да нынче уж мало кто ею владеет.
– Не скажите! Не скажите! – зло засмеялся студент. – Государь-самодержец не даст пропасть древнему искусству, тем более что ему все больше и больше находится применение…
Осип смотрел поверх костра на говорившего и не мог припомнить, где прежде его видел. Были знакомыми и густые русые волосы, и тощая бородка на худом скуластом лице.
Вот второго казак точно не знал, да похоже, он не русский, может, кавказец?
– В бытность мою студиозом Петербургского Императорского я самолично наблюдал поразительное владение нагайкой донским казаком, который одним ударом чуть было не перебил пополам человека.
– Стало быть, заработал… человек-то, – сказал Осип и подумал: «Вот собака! Наш хлеб есть и нас же хает».
– А вы были студентом? – спросил Никита, доселе молчавший.
– Да-с, имел счастье!
– Вестимо счастье! – вздохнул молодой Калмыков. – Такое счастье, то есть даже сказать невозможно… Мечта!
– Так в чем же дело? – сказал говорливый. – Судя по вашей экипировке, средства вам позволяют…
– Вы, господин, не знаю имени-отчества, извините… наверно, не все про нас знаете! – сказал Осип. – Никите на тот год служить. Уж ему там науку пропишут… По обеим скулам… Смотря в какой полк попадет.
– Не понял! – сказал говорливый. – Становитесь студентом, а студентов, как известно, служить не берут!
– Да как же! – чуть не зарыдал Никита, поскольку затронули его больное место. – Мне за гимназию надо сдавать экстерном. Ну, допустим, я сдам… так ведь для того, чтобы студентом стать, нам, то есть тем, кто из казаков, нужно разрешение самого Наказного атамана… А разве его получишь? От всего войска учиться поступают единицы, да и те из казачьих дворян…
– Вот как, – сказал говоривший. – Я, признаться, этого не знал. – И голос его смягчился. – Вот так вольные казаки… А какое у вас образование?
– Отец два года доучиться в гимназии не дал… Уж я как просил, в ногах валялся… Нет! Посадил в лавку! Торгую теперь!
– Демьян Васильич тебя, дурака, любит! – сказал Осип. – Он мне давеча гутарил: мол, Никита в университет мечтает, а того не ведает, что от родителей едут в университеты, а попадают в Сибирь.
– Это верно! Это верно, – засмеялись оба незнакомца. – Ну что ж это мы сидим разговариваем, а не знакомы… Василий Потапов, студент, а это – Генчо.
– Имечко-то не круглое, – сказал, пожимая его крепкую руку, Осип.
– Евгений! – улыбнулся черноволосый. – У нас так говорят. Генчо. Я – болгарин.
– Болгарин! – закричал Осип. – Батюшки! Да что же вы сразу не сказали! Господи! А я, дурак, думаю, что за люди, и за нагайку. Ах, Васятка! Это ты меня сбаламутил… А и то сказать, господа, вы уж на нас не серчайте: следуете по степи ночью, без поклажи, без вещей… Кто знает, что за люди… Болгарин, ну тогда другое дело. А то могут быть и лихие люди.
– Вы уверены, что среди болгар нет преступников? – засмеялся, сверкнув белыми до голубизны зубами, Генчо,
– Да какие там преступники! Над ними как турки глумятся! – замахал руками Осип. – Читать газеты без дрожи не могу.
– Это одна из русских иллюзий, – сказал, посерьезнев, Генчо. – Но это святая иллюзия…
Осип никогда не видел таких глаз, как у этого болгарина: огромные, глубокие и такие черные, что зрачок казался неотличимым от радужной оболочки. Кроме того, они были обведены черным ободком и потому казались иконописными. Казак видел такие иконы в староверческих церквях, они считались византийского письма, и вот теперь он с удивлением и каким-то трепетом перед той печалью, что светилась в них, рассматривал их не на иконной доске, но на бледном худом лице живого человека.
– Черт бы побрал эти наши пресловутые иллюзии! – треснул кулаком о раскрытую ладонь студент. – Куда ни плюнь – кругом иллюзии… Иллюзия империи единой, неделимой, благоденствующей… которую никак не могут усмирить… Иллюзия доброго царя, которого умильно благословляют освобожденные им крепостные!.. Ведь это уму непостижимо: тиран – в ореоле освободителя! И разумеется, наиболее популярны создатели новейших иллюзий – господин Достоевский, граф Толстой… Когда же мы дорастем до материализма?!
– Мне кажется, Потапов, ты путаешь все в одну кучу и называешь иллюзиями национальные устремления, мечты, политику и духовность нации…
– Мечтания – удел раба! Кстати, мечтать рабу – дозволительно! Мечтать – пожалуйста! Действовать – сразу в ход пойдет весьма материальная нагайка…
– Мечта спасла болгар от распыления в недрах турецкой империи! Именно те иллюзии, против которых ты восстаешь, были единственным материальным началом, которое помогло народу выжить до сего дня, – сказал Генчо. – А что, собственно, свобода как не мечтание? Что независимость как не иллюзия? Однако люди идут за них умирать.
– Не больно-то они идут. Те же твои болгары, – резко сказал Потапов. – Пятьсот лет, запершись в своих кыштах, мечтали при свечах об освобождении, а когда пришел Христо Ботев, ему никто ворот не открыл! Это-то ли не рабство?!
Осип увидел, как дрогнуло лицо болгарина, и понял, что студент ударил его по самому больному месту.
Студент тоже это почувствовал.
– Ты меня, конечно, извини и не обижайся за резкость, – добавил он торопливо.
– Я не могу сердиться на человека, который идет умирать за мой народ, – сказал Генчо, глядя в огонь, словно бы самому себе, словно бы самого себя сдерживая и уговаривая не отвечать резко. – Но я удивляюсь, Потапов, как с такими мыслями, с таким презрением к народу ты собираешься его освобождать! Мне просто страшно…
– Чего тебе страшно?
– Вы идете в народ, а он выдает вас полиции, забивает пропагандистов кольями, травит собаками… Что это? Почему народ настроен к вам враждебно? Он готов более сочувствовать разбойнику, убийце, чем революционеру…
– Может, и так… – ответил Потапов. – Но мне кажется, это все излишнее усложнение… Миром правят законы экономики…
– Но человек-то… – перебил его Генчо, – человек-то не состоит из законов экономики… Что мне с того, если я знаю: российское самодержавие стремится усилить свое влияние на Балканах. Что мне с того! Я вижу тысячи людей, готовых отдать жизнь за моих братьев! Я вижу единение! Единение России в этой великой созидательной иллюзии – освободить мой народ.
– Это не я, это ты все путаешь! – закричал Потапов. – Никакого единения нет! Две идеи: господство на Балканах и освобождение балканских народов – соседствуют, но не пересекаются! Дураку понятно, что именно эта идея подогревала всю кампанию по оказанию помощи славянам. Именно эта идея объединила все сословия русского народа! Но объединения вокруг царя не произошло! И царь это понимает. Поэтому он и рад бы начать войну, да боится, как бы с Балкан его солдаты не принесли назад вместо идеи единения с царем – революцию!
– Это не так! Не так! – загорячился Генчо.
Но Потапов только смеялся, встряхивая длинными светлыми волосами.
– Как же не так, если мы с тобой должны пробираться через всю страну нелегально… Именно так…
– Так вы в Сербию? – сказал Никита, который, как и Осип, неотрывно слушал все, что говорили эти два малопонятных человека. Слушал, хотя почти ничего не понимал, словно говорили они на иностранном языке.
– Вспомнил! – вскрикнул Осип. – Вспомнил, где я вас видел, господин Потапов. В прошлом году в Петербурге на рабочей сходке. Я еще вас спрашивал, как в охотники записаться… Не припоминаете?
– Нет, брат, – честно признался Потапов. – Ну и что, ходил в Славянский комитет?
– Ходил, да что толку… Я тогда срочную служил. А теперь вот мобилизации жду.
– Ну, ее можно ждать до второго пришествия… То есть, возможно, она и будет, так, во всяком случае, в церкви обещают!
– Да как же! – сказал горячо Осип. – Как же не быть! Ведь весь народ этой войны хочет.
– Вот тебе и ответ! – сказал Генчо. – Я не отрицаю, может быть, правительство начинало кампанию в поддержку освобождения балканских христиан, имея в виду свои цели, но сейчас разбужена национальная солидарность, и правительство вынуждено поступить так, как желает народ…
– Посмотрим! – сказал Потапов. – Не похоже что-то. Еще живы воспоминания, как нам в Севастополе дали по морде. По нашей самодовольной великодержавной роже…
«Будто радуется! – подумал неприязненно Осип.– Чудно!»
– Что? – засмеялся Потапов, перехватив Осипов взгляд. – Вам мои слова не по нутру?
– Не по нутру! – резко ответил Осип. – Не люблю, когда над моей, значит, державой насмехаются.
– Он не насмехается, – мягко сказал Генчо. – Он сам страдает. А эта война породила надежду в болгарах…
– И дала им возможность заработать миллионы на военных поставках туркам…
– Как так? – в один голос ахнули Осип и Никита.
– А вот так! – зло улыбаясь, сказал Потапов. – Вся Болгария шила туркам мундиры…
– Ну, допустим, не вся, – сказал Генчо.
– Это правда? – глядя ему прямо в глаза, спросил Осип.
– Да! – ответил болгарин, не отводя глаз. Минуту они смотрели друг другу в глаза.
– Хорошо, что не отказываетесь, – сказал Осип и потянулся снять с огня чайник.
– Почему хорошо? – улыбнулся Генчо.
– Стало быть, это я чего-то не понимаю, – хмуро ответил казак.
Потапов захохотал. Но Генчо, мгновенно посерьезнев, как он умел, сказал:
– Да, болгары шили мундиры и поставляли сукно туркам. Да, болгары поставляли продовольствие и давали деньги в рост… Да!
– На что вы нам это все говорите?! – сказал Никита, помрачневший вслед за Осипом.
– А действительно? – все еще улыбаясь и ерничая, переспросил Потапов. – Они же в Болгарию воевать собрались… Они же, я так понимаю, охотниками идти намылились. А тут такой пассаж… Такое развенчание..
– В тысячу восемьсот двадцать пятом году! – ответил Потапову Генчо. – На Сенатской площади стояли полки… Их сметала картечь… Но почему они вышли на площадь, чего добивались, знали офицеры, и то не все… Из солдат же цели не ведал никто.
– Что ты этим хочешь сказать?
– История страшно отомстит вам за это…
– За что? За…
– За то, что вы решили облагодетельствовать народ и, не спросясь народа, желает ли он ваших благодеяний, подставили его под картечь. Это вам, Потапов, ответ на то, почему мужики забивают колами ваших пропагандистов… в деревнях… – Генчо говорил твердо, видно, что говорил давно обдуманное. – Я не хочу обманывать людей, которые готовы отдать жизнь за освобождение моего народа… Да, казак! Да! Болгары делали все это! Да! И когда Ботев призывал народ взяться за оружие, ему не открыли ворот… Да, это так… И ваше право выбирать, идти на войну или нет. Но я хочу сказать, что те же самые люди, что не отворили двери своих домов Ботеву, через два дня до последней капли крови сражались с турками-карателями…
– Это не довод! Они защищали самих себя, – встрял Потапов.
– Да, они защищали самих себя! Пятьсот лет они защищали самих себя и еще иллюзию, совершенно беспочвенную иллюзию, что каждый народ имеет право жить так, как считает нужным! Народ не может состоять из одних героев. Как не может состоять из одних негодяев… Но за то, что в болгарах меньше рабства, чем могли бы породить полтысячелетия угнетения, говорит хотя бы то, что этот народ существует. Что он сохранил язык, культуру, что он все пятьсот лет не переставал бороться за иллюзию… И не поменял ее на материальное благополучие… и безопасность… Я не знаю, что вы решите, идти или не идти, но я могу сказать только свое мнение: болгарский народ достоин свободы хотя бы потому, что за пятьсот лет рабства не утратил тоски по ней!
Они еще долго говорили – о чем, Осип уже не мог вспомнить. Никита ушел спать в балаган под телегой, где уже давно задавал храповицкого Васятка, подставив луне босые черные пятки. Потапов и Генчо спорили о чем-то совершенно непонятном Осипу. А он сидел подавленный настолько, что даже не знал, о чем спросить Генчо или студента…
Отдохнув, гости собрались в дорогу. Осип снабдил их снедью и довел до брода через Собень. Пожав на прощание казаку руку, двое ушли в темноту. Осип послушал, как под их ногами плещет вода, и, когда шаги стихли, вернулся к костру – спать.
2. Чуть посветлело на востоке. Осип раздул подернутые сизым пеплом рубиновые угли костра, подвинул тлевшее бревно и повесил над огнем остывший чайник.
Потом спустился к Собени – умыться. Туман белым молоком разливался по всей пойме и только над самой водой отступал и висел плотным облаком. В его вязкой призрачной белизне прибрежные кусты и деревья теряли свои очертания, а соседний близкий берег был совсем не виден. Казак ступил в теплую воду, с наслаждением облился водой до пояса, крепко протер подобравшиеся от утренней прохлады мышцы холстинковым полотенцем.
Никита с отлежанной щекой и соломой в кудрявой голове сидел, зябко пожимаясь, у костра, дожидался чаю.
– Ополоснись! – посоветовал Осип.
– Бррр… – передернуло Никиту.
Из балагана на карачках выполз Васятка.
– Рачницы смотрели? А? Чего поймалось?
– Иди хоть рожу умой! – сказал старший брат. – Нет тебе угомону! Всю ночь меня коленками пихал. А и то! – сказал он Осипу. – Разбередили мне душу вчерашние-то… Живут же где-то люди. Страсти… события… А тут зараз как в этом тумане пребываешь… Ни день ни ночь… И вдале ничо не маячит. Господи! Ну хоша б какую перемену послал! А то так и вся жизня пройдет…
– Есть! – закричал от реки Васятка. – Вона сколь их! Вона! С усами…
– От баламут, – засмеялся Осип. – Зараз к рачницам полез. Не даст чаю попить! Он схватил корзину и побежал к воде. Васятка, перегнувшись, тащил из воды сито рачницы.
– Осип! Подсоби…
– Давай травы мокрой! – велел Осип. – В корзинку!
В решете копошились черно-лаковые, цвета нового голенища, раки. Тяжелые, в хорошую, мужскую пятерню, самцы давили и отпихивали раков поменьше, норовя впиться в мясо приманки.
– Не суй пальцы! Не суй пальцы! А то враз отщемят! – отпихнул казак мальчишку. – Вона у их каки ножницы…
Раки, злобно щелкая клешнями, пятились, тараща бусины глаз, шевелили длиннющими усами.
Осип азартно хватал их за пупырчатые панцири и швырял в корзину, перекладывая каждый слой мокрой речной и пойменной травою.
Полную корзину накрыли плетеной крышкой и поставили под берегом в воду.
На четвертой корзине азарт прошел, и стало уже неинтересно отрывать черных зверюг от приманки и швырять их в корзинку. Васятка совсем отрешился, гоняя здоровенного рака тростиной по песку.
– Ну вот! Еще полкорзинки руками наловим, и ладно будет.
Осип снял шаровары и, подсучив сподники, пошел шарить в воде под берегом, нащупывая усатых панцироносцев в их норах, хватая их за спины, за усы, порой попадая пальцами в клешни, крепкие, как бельевые прищепки.
– Идите чай пить! Скипел! – сказал, появляясь из тумана, зевающий Никита.
Торопливо наполнили последнюю корзину, до поры поставили в воду и сели завтракать.
Не успели съесть по куску хлеба, как в тумане гулко затопали копыта и к костру присунулись три лошадиные морды.
– Кто такие? – спросил сверху строгий голос.
– Жители тутошние, – сказал Осип, поднимаясь от костра. – Раков промышляем.
Он с удивлением увидел, что разъезд жандармский, а не казачий.
– Никого тут не встречали?
– Вроде никого! – сказал Никита. – Никого, вашбродь!.. Ловите, что ль, кого?
– Не твоего ума дело! – оборвал жандарм. – Давай вправо и влево по берегу, – приказал он солдатам.
– Тут вчера двое городских не шлялись? – спросил он, пристально глядя в лицо Осипу.
– Да нет, – сказал Никита. – Мы поздно приехали, да и спать легли… А что они натворили?
– Не твоего ума дело! – опять осадил его жандарм, поворачивая коня. – Встречаемся у Тимофеевского кургана. – Конь фыркнул Осипу в лицо и, тяжко, горячо дыша, принял под берег. Жандармы-солдаты двинулись следом. Скоро послышались всплески: всадники пошли вдоль берега по воде.
«Вона, значит, против кого на дорогах пикета поставлены! – понял Осип. – Политических ловят». Но как это он приказной Войска Донского смолчал и вроде как способствовал преступникам, коих разыскивает власть? Однако хватать и вязать Генчо и Василия было немыслимо…