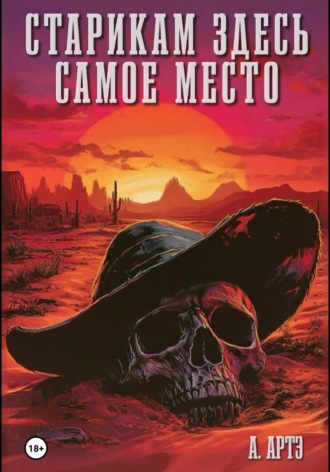
Полная версия
Старикам здесь самое место
Один из грабителей запрыгнул на балку, к которой были привязаны лошади, выбрал ту, что постройнее, и уселся в седло. Второй принялся разматывать поводья.
– Стоять, мерзавцы! Вы у меня на мушке! – взревел Ленард, поднимаясь из своего укрытия.
Стоящий на земле юный конокрад мгновенно выдернул револьвер и выстрелил. Отвязанная лошадь заметалась, едва не скинув второго вора. Ленард охнул, тяжело грохнулся на землю и заорал:
– Джонни, не дай им уйти!
«Что делать? Стрелять? В детей?!»
Тем временем выстреливший вцепился одной рукой в ремешок стремени, второй – в ладонь сидящего в седле подельника, который уже ловко развернул испуганную лошадь. Преступники начали свой забег к спасению.
– В погоню! – хрипло скомандовал Ленард. – Не дай им уйти!
Джон, наконец пришедший в себя, в несколько прыжков оказался у оставленной лошади, которая, казалось, рехнулась от выстрелов. В надежде на освобождение она истошно ржала, мотала головой, пыталась оборвать привязь – и ей почти это удалось. Вожжи соскользнули с перекладины, тонкая кожаная полоска с силой резанула ладонь Джона и дёрнула руку, едва не оторвав кисть вместе с предплечьем. Джон рванул поводья вниз, перехватил узду, потянул за нее, заставляя лошадь опустить голову так, что её затылок оказался чуть ниже холки. Это должно было хоть немного успокоить испуганное животное, но времени ждать, гладить по носу и тем более говорить с лошадью, не было ни секунды. Джон просунул правый сапог в стремя, перекинул левую ногу, ухватился одной рукой за хорн, а второй потянул поводья вправо для разворота. Бросил взгляд на лежащего Ленарда – и, пришпорив лошадь, сорвался с места.
Кобыла все еще не пришла в себя: она отказывалась скакать прямо и норовила сбросить всадника, который едва держался в седле. А воры уже ушли вперёд футов на сто. Они не оборачивались, не отстреливались, а просто гнали вперед. Без колебания и сомнений, словно по давно проложенному маршруту, по выученной инструкции, на объезженных лошадях. Пока Джон пытался справиться с испуганной кобылой, муками совести из-за брошенного напарника и страхом, похитители лошадей во всю прыть мчали прочь.
Всадники стремительно удалялись от города. Джону наконец удалось успокоить свою лошадь, и теперь они все вместе неслись на запад. В какой-то момент Джон начал понимать, что не нагонит конокрадов, смирился с этим и просто начал ждать, куда выведет эта погоня.
Всадники пролетали мимо реки, мчались вдоль ошарпанных скал в сторону гор, прекрасных и величественных. Парадайз остался далеко позади. Где-то там, на заднем дворе салуна Ленард, скорее всего, уже встал и разбудил доктора: ведь пулю требовалось вынуть. Ленард же жив? Конечно, жив! Впрочем, это все догадки, а реальность – вот она, от нее закладывает уши и слезятся глаза, но она прекрасна.
Перекресток, поворот к подножию горы, а там дальше – стремительный подъем по горной тропе. Обрыв совсем рядом (не смотреть вниз!). Одно неверное движение _ и каменистый склон одним ударом убьет преследователя Джон не удержался – посмотрел. И едва не сорвался: душа уже ухнула в пропасть. Руки сильнее вцепились в поводья: ни в коем случае не утратить контроль над лошадью, только не сейчас! Джон почти потерял из виду преследуемых, лишь в последний момент заметив их вираж. Как ребенок, уверенный в своем проворстве, играючи убегает от взрослого, так же и они прошмыгнули в заросли кустарника сразу за огромным валуном. Тропа здесь узкая, едва можно разъехаться. Джон подтянул поводья к себе, сбавил ход перед еще одним резким поворотом, услышал двойной свист и через пару шагов получил ошеломляющий удар по голове. В глазах потемнело, и Джон медленно сполз с лошади. Плечом он почувствовал камни, острыми гранями впившиеся в тело сквозь рубашку.
«А могло бы быть и хуже…»
***Откуда-то издалека пробивалась боль. Джон очнулся – и в нос сразу же ударил запах сырости. В горле стоял солоноватый вязкий привкус крови, который невозможно было сглотнуть: рот пересох. Левая щека онемела: она была прижата к каменистому полу и, судя по саднящей боли, ободрана. Джон попробовал пошевелиться, но понял, что связан по рукам и ногам. Открыв глаза, он убедился, что ничего не видит. Однако спустя несколько секунд в темноте проявились неровные пузатые стены, низкий свод, пол – точнее, та поверхность, на которой Джон лежал ничком. Каменная пасть. Или пещера.
Где-то позади, там, откуда пробивался слабый свет, заухали шаги, и Джон замер, стараясь даже не дышать. Кто-то, звеня связкой ключей, отпирал дверь и тихо ругался. Скрежет старых петель взял высокую ноту – дверь ударилась о стену, и свет залил круглую каменную комнату, Судя по запаху, горела керосиновая лампа. Державший её человек медленно, словно нехотя, произнес:
– Жив вроде. Вон дышит.
Свет тут же погас. Человек вышел, хлопнув дверью.
«Значит, пещера. А я нужен живой». – начал было соображать Джон, и голова немедленно заболела еще сильнее.
Рубленые мысли начинали сливаться в поток, сразу за ними понемногу начал подкрадываться и страх.
«Револьвера, конечно же, нет. Нож из сапога забрали…» – Джон был вынужден признать свою полную небоеспособность.
Связанный, обезоруженный, с раскалывающейся головой, он с трудом перевернулся на спину и посмотрел вслед уходящему свету. Сверху огромным темным клыком целился валун.
«Все-таки пасть».
Джон перевел взгляд на ноги – и увидел ту самую скрипящую дверь-решетку. Такие он в детстве видел в офисе шерифа, когда глазел на задержанных. Особой удачей считалось увидеть кого-то ценного, за сотню-другую долларов. Опасные, злые, как правило, грязные, они подобно бешеным собакам сажались на цепь, запирались под замок, подобно собакам же лаяли: сначала на охотника за головами, потом – на шерифа, затем на жизнь. Получалось всегда интересно. Заключенный отыгрывал свою роль: метался по камере, пытался выбить ногой дверь. Власть уверенно дымила ему в лицо табаком, представляя добро и справедливость. Пойманный нарекался злом, его стоило опасаться, но при этом почему-то хотелось ему сочувствовать, а, может, даже и самому быть им. Вольный, непокорный, запертый дикий зверь. Было что-то в этом драматично-красивое, искреннее, ценное.
Отец интереса сына к заключённым не одобрял. И поймал однажды Джона у окна в камеру, из которой рвался на свободу Дикий Джо. Ухо накрутил так, что болело потом целую неделю. Но Джо было еще хуже: его и вовсе вздернули на виселице. Болтался потом на дереве несколько месяцев – связанный, совсем как Джон сейчас, по рукам и ногам.
От веревки нужно было избавляться. Но нет ножа. Что бы сделал отец? Он бы наверняка что-нибудь придумал. Джон снова посмотрел на носки своих сапог. Нужно что-то острое, хотя бы шпоры, до которых, увы, не добраться. Задранная почти до колена штанина впивалась в ногу тройным отворотом, в котором Джон на всякий случай всегда хранил доллар. Отец всегда там прятал либо заточенное короткое лезвие, либо коробок спичек. Но сын почему-то решил, что монета нужней.
«Достать бы его!!»
Джон представил, как заточит грань монеты и распилит веревку, но туго стянутые за спиной руки едва могли пошевелиться. Тогда парень лег, поднял ноги в надежде, что несколько рывков каким-то чудом ослабят отворот и заветный доллар выпадет.
Снова послышались шаги. Джон оставил тщетные попытки, затем вспомнил, что лежал на боку, перевернулся и на всякий случай закрыл глаза.
Послышался уже знакомый металлический звук. На этот раз пришедших было больше. Джон, сделавший вид, что все еще находится без сознания, почувствовал, как его подняли и поволокли вслед за светом фонаря.
– С каких пор мы ловим индейцев? – спросили слева.
– Он гнался за «малышом» и «святошей», от самого Парадайза, пока не встретился с хуком от Логана, – насмешливо отозвался голос справа.
– Ему что, больше всех надо было? Или это его лошади?
– Хрен его знает! Одного подстрелили, но он вроде как за на…
– Ш-ш-ш! Хватит трепаться! – Человек с фонарем обернулся. – Еще все имена ему продиктуйте, он наверняка в сознании, притворяется просто. Ну ничего, сейчас Хаз его расколет.
Блеф не удался. Карта была еще в рукаве, но кто-то уже догадался, что она там есть. Нехорошо. Неожиданность боится опыта. Волокут на свет, там и разберутся.
Джон чуть приоткрыл глаза и осмотрелся сквозь полусомкнутые ресницы. Разглядеть удалось почти все. Как он и предполагал, это была пещера – неглубокая, так как шагах в двадцати уже виднелся выход. Слева и справа от него громоздились ящики, свернутые спальные мешки, ведра с водой: вероятно, это было чьё-то постоянное жилище или база со своей собственной темницей.
Идущий впереди чуть прихрамывал на левую ногу и тихо продолжал ворчать. Он был старше своих собеседников, это было слышно по голосу и видно по тому, как он двигался. Видимо, он пользовался авторитетом, так как после его замечания те, кто тащил Джона, сразу умолкли и теперь лишь терпеливо сопели.
Наконец глазам пленника предстала небольшая поляна, с одной стороны защищенная скалой, с другой – деревьями, с третьей – пещерой. Три повозки, четыре палатки, костер, на котором что-то варилось в горшке. С десяток лошадей, стоящих вдоль коновязи, примерно столько же людей… Джон подумал, что здесь и в самом деле живут постоянно: все обустроено, есть даже столы, вместо стульев – пеньки и срубы, имеется ограда и даже подобие ворот поодаль, возле которых кто-то стоит, прислонившись к столбу: видимо, караульный.
Джона с большим облегчением бросили на землю у одной из палаток.
– Хаз, доставили! – прохрипел человек с фонарем.
Палатка распахнулась, из нее появился высокий мужчина и спросил:
– Без сознания? – И, не успев получить ответа, добавил: – сейчас я и сам узнаю!
Он подошел сбоку, кинул взгляд на лицо пленника и с размаху всадил сапог в его печень. Джон взвыл от боли.
– Вот и пришел в себя наш притворщик! – обрадовался хромой. Его лицо заросло седой бородой почти до самых глаз, внешние уголки которых были грустно опущены.
Раздался дружный хохот. Джон открыл глаза и увидел перед собой великана, который громыхал утробным смехом.
«Какого же он роста? С лошадь, что ли?»
Джон пытался всмотреться в лицо великана, но полуденное солнце било по отвыкшим от света глазам, которые не могли сосредоточиться на черном силуэте того, кого называли Хазом. Он напоминал пугало, что ставят в огороде, накидывая поверх перекрещённых балок шляпу и сюртук, потрепанный временем, который развевается на ветру. Создавая тоску, отпугивая птиц, такой деревянный страж был неприятным, но безобидным. Это же ожившее пугало вселяло ужас.
Словно почувствовав мысли пленного, великан перестал хохотать и уставился на Джона. Тот все так же вглядывался в него, но рассмотреть не мог: казалось, это лицо – черная клякса на голубом фоне, которая таращится на тебя в ответ глазами, которых ты не можешь увидеть, но точно знаешь, что они есть. И Хаз решил их показать. Присев, он достал нож и провел обухом по своему горлу.
– Кто ты такой? И какого хрена ты здесь делаешь? – вполголоса прорычал он. – Ты охотник за головами? Из агентства? Или новенький на побегушках у шерифа Койла?
Изъеденное шрамами лицо землистого цвета и посаженные в желтоватые белки безжизненные серые зрачки. С легкой жутковатой поволокой, как у мертвой рыбы, жадные, как у хищника, который давно не ел, злые и оглушительно жестокие, какие могут быть у человека, вкусившего кровь.
– Кто тебя нанял? – не успокаивался Хаз.
Он схватил Джона за ворот, приставил острие ножа к его горлу, поцарапав кожу и выпустив каплю крови. Вокруг снова загоготали. Хаз оскалился, его острые зубы разомкнулись, сделав рот похожим на волчью пасть.
«Волк! Вот он кто! – подумалось Джону. – Переродившийся в волка человек!»
Хаз продолжал что-то говорить, но Джон уже не слушал его. Слова терялись, они были не нужны: смысл начал проникать через ноздри, как у дикого зверя, почуявшего смерть. Джон узнал главаря.
«Это не волк. Это медведь».
I.I. Ленард
– Ах, милый мой Бенджи! Придет время, и Ленни все поймет! А теперь прости его.
Мать заключила в объятия старшего сына, взглянула на младшего и отвернулась. Ее жилистые руки могли быть ласковыми, когда она гладила по голове ранимого «чистого» Бенджи – свою гордость и надежду. Ленард, которому сегодня исполнилось тринадцать, стоял в углу и сосредоточенно отковыривал глину, заполняющую щели между бревнами. Его это успокаивало: потихоньку, одним пальцем он делал утеплитель менее заметным, шов получался почти невидимым. Угол непослушания со временем перестал быть тюрьмой и стал мастерской.
– Отвернись и подумай над своим поведением, негодник!
Даже сидя к Ленарду спиной, мать всегда чувствовала, когда узник-рецидивист вдруг оборачивался, оторвавшись от своих мыслей и от застрявших в глине клоков соломы. Иногда Ленард им помогал, поддевая носком. Особенно после того, как полные лживых слез глаза старшего брата выглядывали из-за плеча матери и улыбались.
Ленард, так часто отбывал наказание, что перестал запоминать поводы, и лишь вновь и вновь приводил угол в порядок. Пока жертва искала утешения, преступник заходил всё дальше – и рос. Доставая пальцами до новых срубов, всё выше и выше, он все больше укоренялся во мнении, что справедливости нет. Оговоренный в который раз, он иногда поднимал взгляд, смотрел в потолок и понимал, что скоро попросту упрется в него.
С самого детства им с братом рассказывали истории о всемогущем всевидящем старике, что вознаградит за благие помыслы и дела, накажет за не благие. Это всегда казалось Ленарду странным. Ведь на небе было только небо. Голубое, серое, черное. Днем старику, очевидно, мешало солнце, ночью – темнота. И он не видел Ленарда. Или просто не хотел его замечать. В конце концов пришлось с этим смириться, и мальчик сделал вывод, что наказаний свыше нет. Наград, кажется, тоже. Но есть люди, которые беспричинно в это верят. Такой была его мать, чуть в меньшей степени – отец, а брат и вовсе хотел посвятить свою жизнь служению невидимому старику. Но Ленард в глубине души знал, что правды в желании Бенджи еще меньше, чем в толстой книге со скучными древними сказками. Буквы на черной обложке совсем истерлись – наверное, из-за того, что Бенджамин каждое утро пихал томик под мышку и запрыгивал на облучок телеги, под бочок к матери. Всегда кроткий и скромный при ней, Бенджи затевал свои философские морализаторские разговоры по пути в церковь, где они с братом обучались у отца Стефана – местного пастыря. Ленарда в телеге укачивало и тошнило. Но последнее – не от тряски. От правильно подобранных, но ничего не значащих слов, слетающих с губ старшего брата, с губ, над которыми едва пробивался пушок.
Ленарду казалось, что Бенджамин заранее готовится к беседе: он издалека заводил разговор на нужную ему тему и, как фокусник из шляпы, извлекал фразы, которые, конечно же, придутся родителям по душе. Бывает, мать приобнимет старшего сына, вздохнет, в очередной раз скажет, что отец Стефан очень гордится своим лучшим учеником, который совсем недавно стал алтарником, скоро станет викарием, а затем – и вовсе новым пастырем Сент Хилл Черч – церкви города Парадайза.
Только в это Бенджамин верил по-настоящему. Он пропадал в церкви, заучивая святые писания и слушая бесконечные однообразные проповеди пастора. В глазах мальчика разгорался огонь, когда он представлял, как однажды будет выступать на воскресной службе перед местными жителями: в белом облачении, открытый, умный, милостивый отец для всех прихожан. Светящийся во тьме маяк, ангел, спустившийся с небес и вставший за алтарь. Он поведет их по жизни – как знающий чуть больше, ведь он немного лучше, чем обычный человек. Он близок к Богу настолько, что иногда даже касается его, а затем передает Божий свет людям. Он имеет право, нет, он даже обязан наставлять заблудших на путь высшей истины и благодати.
Кто-то ведь должен рассказать вонючему Глену, что смысл жизни – в служении богу, а его возня с лошадьми, коровами и их дерьмом не что иное как хобби. Кто-то же должен сообщить запущенной Мэри, что бог видит ее, осуждает за помыслы и порицает за недостаточно частые молитвы? Кто, если не Бенджамин Прайс, научит этих людей правильно жить?
Молодого человека доводила до экстаза сама мысль о том, что он будет местным праведником, чей авторитет будет простираться на несколько десятков, а может, и сотен миль вокруг. Высочайшая социальная роль, второй человек после мэра – а может быть, и первый. Где-то наравне с губернатором. Пожертвования, общественное одобрение, защита от всего: ни полиция, ни бандиты, ни даже армия – никто никогда не пойдет против церкви. Если же и найдется смельчак – общество не отдаст на растерзание своего пресвитера.
Погружаясь в честолюбивые мечты, юный Бенни понимал, что простая воскресная проповедь может дать огромную власть, безграничное влияние и вечную славу. Святой Бенджамин – покровитель юга США. Звучит. Думать ему об этом Бенни было неловко, даже стыдно, но очень уж приятно. Будущий архиепископ (на меньшее он не соглашался) отгораживался от своего стыда уверенностью в своей избранности. Он ведь уже служит богу, он передаёт его волю, и, если такие мысли приходят ему в голову, значит, богу они угодны.
Но чего Бенджамин не допускал и допустить не мог, – это того, что кто-то поставит под сомнение могущество его бога. Позволить это – означало допустить, что его бог не обладает всеобъемлющей властью или является частью системы богов – что попахивало давно протухшим политеизмом. Но делить с кем-либо власть Бенджамин не собирался. Он не считал католиков христианами, а загадочную религию ислам и вовсе презрительно отвергал.
Был, кстати, и неразрешенный, точивший юного послушника вопрос, который однажды задали ему на службе. Перемазанный сажей мальчик, пришедший на службу с таким же чумазым отцом, явно кочегаром, спросил:
– Почему умерла моя мама? Почему Бог забирает хороших людей?
Чистый, по-детски дрожащий голос остановил проповедь. Отец мальчика неловко пытался его одернуть и даже спрятать у себя за спиной, а прихожане вздохнули и с интересом уставились на Бенджамина. Вопрос прозвучал, его услышали и ждали ответа.
Юный Бенни, который уже примерил на себя сан викария, смолк и понял, что ответить на это ему нечего. Пауза затянулась и стала совсем неудобной. Наконец он изверг из себя пространную речь о свободе выбора, о том, что люди вольны выбирать между добром и злом, а того, кто выбрал зло, ожидает священный суд и наказание.
– Моя мама сильно болела и умерла сама. Она не злая.
Мальчик, явно сообразив, что понятного объяснения он не получит, обиженно и рассерженно прятался за отца, который своим растерянным видом словно извинялся за причинённое неудобство.
Несколько десятков глаз снова уставились на юного викария, который мало того, что не знал, что ответить, так еще и начал краснеть, лишь подтверждая свой провал перед публикой. Наконец, к алтарю вышел отец Стефан и спас своего незадачливого заместителя, громким голосом объявив о начале проповеди «Твердая Вера». Убедительны и авторитетны были его первые предложения, профессиональное внушение подействовало, и прихожане, сначала заинтригованные диалогом, а затем разочарованные невнятностью ответа, позабыли о случившемся казусе и бодро понеслись на волнах добра и благодати через веру к божьей милости.
Сам Бенджамин так и не нашел внятного ответа на вопрос чумазого бесенка, чуть было не похоронившего его зарождающийся авторитет. Можно было бы, конечно, сказать, что это происки злой силы, Сатаны, но в таком случае рушилась теория всемогущества бога. Ветхий Завет тоже не объяснял, как быть. Тогда на помощь снова пришел отец Стефан:
– Сын мой, каждый христианин неосознанно верит в единого Бога-отца, в дьявола, что создает зло на земле, в святых, которым поклоняются в разных ситуациях люди разного происхождения. Мы лишь позволительно объединяем это под сводами своей церкви и пополняем паству.
Тогда-то Бенджамин, который и прежде подозревал, что идеалы не идеальны, познал циничную истину, потерял невинность и… все-таки расстроился из-за утраченной святости служения. Таинства нет, нет и святых, даже священника нет: есть ученик, который выучил урок… «При каждом неудобном случае говори, что такова была воля Божья, нам не дано понять его замыслы и остается лишь уповать на его милость, добиться которой можно лишь через кроткую непоколебимую веру».
Ленарду подобные мысли в голову никогда не приходили, хотя религиозный шум звучал вокруг него постоянно. Этот шум исчез, когда младший из братьев покинул дом и ушел добровольцем на войну. Стало вдруг тихо. Не сказать, что спокойно. Ясно. Непривычно.
И сейчас, лежа в окопе на свернутом рваном одеяле, Ленард думал о том, что он словно оглох. Отец, мать, Бенни приходили к нему и что-то говорили, чушь наверняка. Но он был рад, что они все же появляются, особенно Бенджамин. Ведь были времена, когда они вместе играли, были по-настоящему близки. А потом что-то сломалось, и один чинить не захотел, второй не смог, а родители этого не заметили. Мама говорила, что, кроме семьи, никого роднее быть не может. Но даже эта фраза у неё всегда казалась какой-то хрупкой, словно застывшая и отломившаяся от свечи струйка воска.
Ленард недовольно сдвинул брови, скрестил руки на груди и уставился в земляную стену окопа с торчащими из нее корнями. Прошлое своими полуправдивыми картинками снова замелькало у него перед глазами, и он, зная, что навязанный просмотр продлится не один миг, терпеливо вздохнул. Снова одни и те же воспоминания… Дом с белой облупившейся краской на стенах, кресло-качалка на крыльце, надломленная ступенька с торчащим гвоздем, до которой почему-то никому не было дела. Отец всё время возился то с лошадьми, то с коровами, то с курами. Постоянно чинил ограждение загона, крышу амбара, раскидывал сено или убирал дерьмо. От него всегда плохо пахло – даже после того как перед ужином он намылится по пояс и опрокинет на себя целое ведро воды. Охнув от внезапной прохлады, возьмет грязное полотенце, с облегчением вытрет лицо, оботрет тело и задумчиво посмотрит на свои мозолистые руки, словно благодаря их за тяжелую работу.
Дома всегда был ужин, стол не ломился от блюд, но разнообразие было. От пирога с ревенем до «горных устриц», которые маленький Ленард просто обожал, пока старший брат не сказал ему, что это не что иное как жаренные в масле бычьи яйца. Семья Прайсов традиционно, усаживаясь за стол, читала молитву и благодарила Бога за возможность поесть, что младшему сыну казалось дикостью: ведь благодарить нужно было отца, который сидел во главе стола и с закрытыми глазами проговаривал заученные слова.
Ленард уважал отца, но не гордился им, понимая в глубине души, что тот – хороший честный человек, который ведет хозяйство, содержит семью, но на большее не способен. Небольшой участок, дом, амбар, сарай, загон – этого Ленарду было недостаточно. И он не мог понять, почему это устраивало его семью. Даже спросил как-то раз у отца, почему они не живут как Эбигейлы, но отец только строго посмотрел в ответ. Ленард решил больше не задавать вопросов, но думать об этом не перестал.
Усадьба Эбигейлов, местных зажиточных плантаторов хлопка, представляла из себя огромную территорию с бесчисленным количеством построек и бескрайними белыми полями, расчерченными ровными бороздками, на которых от рассвета до самого заката трудились негры. Мальчик каждый раз пытался их сосчитать по дороге в город, куда он ездил с матерью за продуктами, но всегда сбивался. Он готов был терпеть что угодно: тряску, палящее солнце, нравоучения, – лишь бы снова увидеть этот огромный белоснежный особняк, на террасе которого можно было разглядеть дам и джентльменов, красиво одетых, смеющихся, беззаботных. Женщины в пышных платьях сливочных оттенков и с кружевными зонтиками, которые, подумать только, защищали не от капель дождя, а от лучей солнца, прогуливались по саду среди пестрых клумб, постриженных кустов и причудливых деревьев, вереницы которых тянулись с обеих сторон, своими сплетающимися кронами образовывая протяженную тенистую аллею – длинную зеленую прохладную арку. Она вела от ворот и до самых ступенек террасы особняка, на которой, развалившись, закинув ногу на ногу, поигрывая тростью и выпуская в воздух сигарный дым, сидел сам мистер Эбигейл.
Все люди, прибывающие в роскошных лакированных экипажах, почтительно кланялись хозяину дома, тот привставал, дежурно приподнимал соломенную шляпу и жестом приглашал гостей к столу, на котором высились бокалы и серебряные ведерки с бутылками. Затем мистер Эбигейл щелкал пальцами и давал указания подскочившему к нему человеку с черной кожей, одетому в белую рубашку с бабочкой и с серебристым подносом в руках. Не в пример тем, что трудились в это же время на полях, под палящим солнцем. Они монотонно, до боли в спине топтали влажную землю, собирая белые пушистые «снежки» и отделяя их от шелухи, отправляли в плетеные корзины или большие мешки, которые висели на их поясах как фартуки. Бесконечная усадьба Эбигейла заканчивалась, виднелся лишь силуэт огромного белого дома, который и сам словно был собран из множества пушистых комков хлопчатника. Затем и дом пропадал из виду, и мальчик, трясущийся в семейной повозке, с восторгом восстанавливал увиденное в памяти, давая имена и придумывая биографии всем гостям этого невероятного для Ленни дома. Он представлял, как общается с ними, дамы смеются его шуткам, а джентльмены дружески хлопают по плечу. Все вместе они пьют то, что услужливо наливает из бутылок черный слуга в белой рубашке, а мистер Эбигейл учит маленького Ленарда курить сигару…


