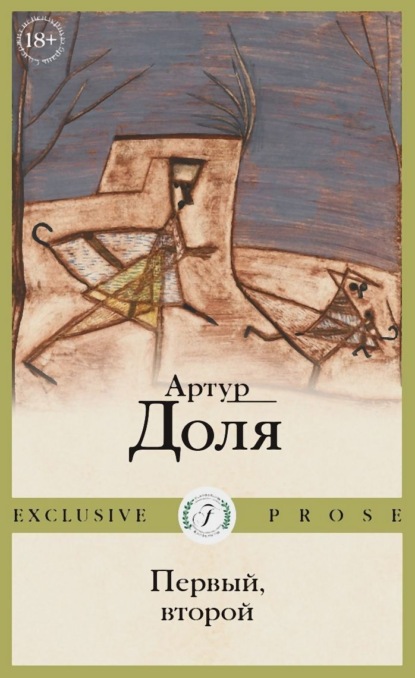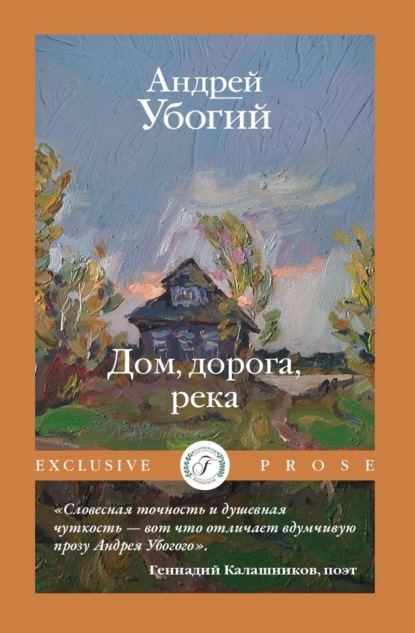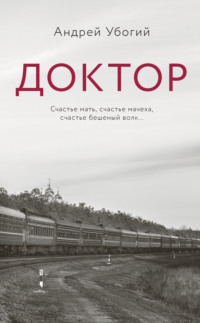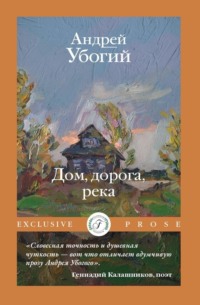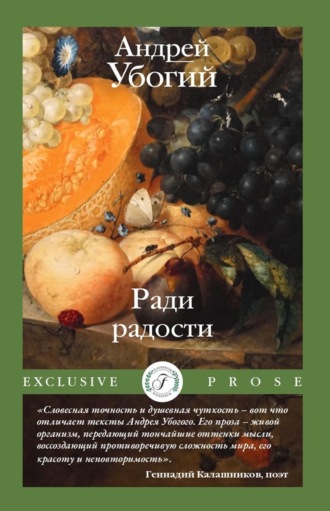
Полная версия
Ради радости
Словом, если мы и способны почувствовать, ещё на земле и при жизни, дыхание ада, то похмельная жажда и неотступное чувство вины уже нам дают представление о тех безнадежных пространствах, где сохнет, мертвеет и гибнет душа. Ад – он всегда рядом, и не надо, как писал Гоголь, ходить за чёртом тому, у кого он за плечами сидит.
Но жизнь милосердна к своим непутёвым питомцам – хоть близок ад, но ещё ближе спасение. И нынешним утром оно воплощается в этой кружке воды, за которую ты ухватился, как утопающий за спасательный круг. Припадая сухими губами к её запотевшему краю, ты жадно пьёшь саму жизнь. И с каждым глотком, что прохладной волной омывает твоё пересохшее горло, ты не только утоляешь похмельную жажду, но ещё и вымаливаешь прощение. Чувство вины, что так жгло твою душу, оно понемногу стихает…
А всего-то, казалось бы, кружка воды! Но Бог в мелочах: порою достаточно кружки воды, чтобы почувствовать благодатную силу прощения. Значит, мелочь – уже не такая и мелочь; не случайно же именно кружка воды так нередко приходит на ум, когда вспоминают о смерти. «Кто подаст ему кружку воды?» – вопрошают, имея в виду тяжкий труд умирания. Стало быть, и на последнем земном переходе – из жизни в смерть – кружка воды может нам помогать. Предсмертная кружка становится той последнею милостью, которую нам дарит жизнь, и надо молиться не только о том, чтобы был рядом тот, кто её поднесёт, но и чтобы нам, уходящим, хватило бы сил принять этот дар с благодарностью.
КУЛЁК. Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулька в руке либо в сетке-авоське (тоже, кстати, слово-реликт).
Кулёк – то есть конус из серой (иногда синей), шершавой, очень приятной на ощупь бумаги – был тогда универсальною упаковкой. В кульках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селёдку бросали в кулёк, и сквозь бумагу проступало масляное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва, она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким, почти съедобным.
Всегда нравилось наблюдать, как продавщица, где-нибудь в сумраке сельского магазина, виртуозно сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку, и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршаньем начнут сыпаться сахар или крупа. В магазине прохладно и пусто, с потолка висят клейкие ленты, на которых брунзжат невезучие мухи, а по углам стоит и висит всякая всячина, которую так интересно рассматривать. Тазы и решёта, серпы и лопаты, примусы и керогазы, лампы «летучая мышь», дымари, сапоги и калоши, чугунки и ухваты, печные заслонки, мышеловки и конопляные веники – всё, что могло пригодиться в сельском быту и чем здесь торговали вместе с продуктами.
Удивительно, до чего проста была тогда жизнь: всё её материальное, так сказать, обеспечение помещалось в единственной на всю деревню лавке «сельпо». И эта жизнь – во что сейчас даже трудно поверить – была практически безотходной. Ни мусора, ни тем более мусорных свалок тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросятам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Взять, к примеру, какую-нибудь круглую жестяную коробку из-под селёдки – разве можно было её взять да выбросить? Нет, отмытая от сельдяного рассола, она или служила хозяину хранилищем для гвоздей – а гвоздь, даже гнутый и ржавый, был тогда большой ценностью, – или становилась кормовой миской для дворового Тузика.
Это я всё к тому, что нынешние времена, по сравнению с аркадской идиллией моего детства, буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть заживо похоронены в его грудах. Наша цивилизация превратилась в прямом смысле в цивилизацию упаковок. Полюбуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурачатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки, но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие осквернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.
А кроме того, цивилизация упаковок – это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна, как об этом кричат картинки и надписи на упаковке. Скорее всё наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой и опаснее) содержимое.
Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромен, да честен: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе, так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завёрнуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старой плетёной корзине. Но в конце концов любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась, этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи, и скоро бумага смуглела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнем, – а потом улетал в виде сажи и жара в печную трубу…
КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ. Какой только нынче не встретишь литературы по кулинарии! Стоит зайти в книжный магазин – глаза разбегаются от обилия ярких обложек и сотен названий, призывающих нас к наслаждениям чревоугодия. Никакой Лев Толстой не издаётся так нарядно и привлекательно, как какой-нибудь сборник «Рецепты тёти Моти» или «Тайны кулинарии аборигенов острова Окинава».
Но глянец и золото этих изданий во мне лично аппетита не пробуждают. То ли я чувствую во всём этом некий подвох – уж больно всё пёстро и броско, – то ли вкусы мои, что сложились ещё в прошлом веке, расходятся со вкусами нынешних дней, и взгляд почти равнодушно соскальзывает с лакированных ярких обложек.
Зато до чего интересно держать в руках старую – а ещё лучше старинную – кулинарную книгу – ту, которая передавалась от бабушек к внучкам и на страницах которой остались следы поколений. Полистайте какой-нибудь пожелтевший, затрёпанный том «Домоводства» или «Книги о вкусной и здоровой пище» – той самой, которая пятьдесят лет назад играла роль катехизиса, книги ответов на основные жизненные вопросы. Вы сразу почувствуете, как много жизни хранит эта старая книга, в том числе и потому, что традиции быта, как правило, переживают крушения царств и империй, триумфы и гибель вождей, ужасы войн и судороги революций. Кухонный очаг долговечней дворца, и насущные интересы желудка всегда будут людям ближе политических лозунгов или партийных пристрастий. Как известно, «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Что можно добавить к печальной и мудрой улыбке этого народного изречения?
Давайте же полистаем старую кулинарную книгу. Закладками в ней служат то ломкий засохший цветок, то листок отрывного календаря, несущий память о дне, что давно канул в Лету, то нитка или лоскуток пёстрой ткани, а чаще всего страничка с рукописным рецептом, услышанным от подруги или соседки и дополняющим том кулинарного руководства. Эти листочки бывают обычно помяты, захватаны пальцами и забрызганы жиром, но зато можно сказать, что старинные кулинарные книги непрерывно дописываются теми, кто ими пользуется.
По этим вкладышам можно порой догадаться, какому празднику предназначалось жаркое или пирог, чьи следы отпечатались на листке разлинованной школьной тетради. Вот, скажем, рецепт гуся с яблоками – это конечно же Новый год или Рождество: это ёлка, гирлянды и свечи, оранжевые мандарины и непременный салат «оливье», это ожидание счастья, которое в нас сохраняется на всю жизнь.
А вот рецепт пасхального кулича: сразу же представляешь апрельское ясное утро, счастливых старушек, бредущих от службы, пасхальные возгласы и поцелуи и горку малиновых, синих, зелёных и пёстрых яиц на столе.
Рецепт окрошки – это, скорей всего, Троицин день, когда храмы пахнут берёзой, а поселковая наша околица – свежескошенным сеном.
А сладкие пироги – это дни рождения детей. Духовка раскрыта – она пышет жаром, – а масляный противень глухо гремит, когда по нему расстилают корж теста и заливают его ярко-алым вишнёвым вареньем. И та девочка, что зачарованно смотрит на эту картину, – девочка, которая спустя много лет сама станет бабушкой и будет печь внукам праздничные пироги, – не будет ли и она воскрешать в памяти этот вишнёвый пирог как самое сладкое воспоминание жизни?
ЛЕДЕНЕЦ. Можно, конечно, сварить леденец самому, как мы это и делали в детстве. Берёшь ложку сахара, держишь её над огнём – сахар тает, желтеет, и вязкий сироп начинает кипеть. Янтарные пузыри разбухают и лопаются, и тогда убираешь с огня закопченную ложку, чтоб твой леденец остыл.
Его сладкий, с оттенком горелого, вкус памятен до сих пор, и памятно то удивление, с каким я наблюдал переход вещества из одного состояния в другое. Только что в ложке был сахар, сыпучий и белый, вот в ней пузырится вязкая карамель, а вот уже, стукнув ложкой о стол, я выбиваю из неё гладкий и твёрдый, как камень, кусок леденца.
Но ещё большее удивление и восхищение вызывал «петушок на палочке» – популярное лакомство прежних лет. Эти леденцы продавались обычно с лотков во время каких-нибудь празднеств или гуляний. Помнишь, спрашиваю я самого же себя, как лежали они, слипшись боками, на вощёной бумаге торговца и с каким целующимся звуком отлеплялись один от другого? Цвет леденца был обычно янтарным, хотя попадались и красные, и зелёные петушки. А размер его был таким, что, засунутый в рот целиком, леденец выпирал изнутри детских щёк и раздвигал губы в оцепенелой улыбке, посередине которой торчала липкая палочка-черенок.
Чем больше ты облизывал леденец, заглаживая языком его острые рёбра, тем он становился прозрачней – уже до того, что сквозь петушка можно было увидеть и солнце, и ствол ближнего дерева, и даже шагающих мимо людей. Иногда начинало казаться: всё то, что видишь, находится не за леденцом, а внутри него, в его собственном полупрозрачном теле, которое словно содержит в себе целый сказочный мир. Этот мир завораживал: всё в нём светилось янтарным, таинственным светом. Ребёнком ты ещё не понимал слова «преображение», но сквозь леденец, истаявший до толщины бутылочного стекла, ты видел мир уже как бы преображённый – такой же, как есть, только лучше.
А иногда, отвлечённый чем-либо, ты совал недоеденного петушка в карман и надолго о нём забывал. Помнишь, как потом было странно и грустно доставать леденец из кармана штанов или куртки? Он был потускневший и жалкий, облепленный сором, ничтожный. И куда подевалось былое его волшебство? Пытаясь хоть что-то исправить, стараясь вернуть тот таинственный мир, что тебе померещился давеча внутри леденца, ты начинал отлеплять от него шелуху семечек, нитки и хлебные крошки, комочки свалявшейся шерсти – тот сор, которого леденец нахватался в кармане. Но усилия были напрасны: петушок оставался безжизнен и тускл.
И вот только когда ты слизывал с угловато-шершавого, сладкого тельца соринки, ворсины и крошки, тогда леденец оживал. Он опять становился прозрачен и гладок, и в нём ненадолго опять возникал тот таинственный свет, в котором волшебно менялся весь мир. Поднося леденец к глазам, ты опять видел сказку, тот мир, что как будто похож на обычный, но только прекрасней его. Одно было плохо: леденец быстро таял, а с ним исчезало оконце в тот сказочный мир…
ЛЕПЕШКИ. Речь пойдет даже не о лепешках из пресного теста, а скорей о давнишней мечте. Была у меня в детстве любимая книжка: «Мумми тролль и комета». И был в ней рисунок, сделанный самой Туве Янссон, автором книги: Снусмумрик, один из героев, сидит у костра меж корней старого дерева и печёт на сковородке лепёшки. Уж не знаю, чем так покорил меня этот рисунок – быть может, каким-то уютом печали, что наполнял и его, и всю книгу? – но всё моё детство, а потом и всю молодость во мне сохранялась мечта: когда-нибудь тоже вот так, как Снусмумрик, расположиться у старых древесных корней, развести костерок и вот так же неспешно испечь полдесятка лепёшек. Смутно мерещилось, что ничего лучшего в жизни не может и быть, что вполне счастлив я стану только тогда, когда на мерцающих углях костра зашкворчит сковородка, а на ней, становясь всё румянее, будут подпрыгивать ноздреватые кляксы из теста…
Ждал я этой минуты лет, наверное, двадцать. И вот наконец всё совпало: и вечер, и берег реки, и костёр, чьи блики мерцают на тёмной воде. Пошевелишь дрова – искры взлетают и гаснут в ветвях старой ивы, по чьим оголённым корням так удобно спускаться к реке за водой. Я спустился и зачерпнул из реки котелком – отражение костра задрожало, расплылось и снова собралось, – а потом, сев на корточки возле огня, начал смешивать в миске воду с мукой. На Снусмумрика, правда, я пока не был похож: слишком уж суетливо я растирал комки теста, и во мне ещё не было медленной грусти – той, без которой никак не испечь настоящих походных лепёшек.
Лишь когда тесто было готово, и на крышке от котелка (заменявшей мне сковородку) шкворчал кусок сала, и ночь пододвинулась ближе, потому что костёр уже не плясал языками огня, а лежал грудой жарких, мерцающих углей, – лишь тогда ощутил я толчок затаённой печали, которая мне говорила: «Едва ты исполнишь мечту – как расстанешься с ней». Что же, подумал я, пришло время расстаться и с давней мечтой о лепёшках – пришло время их печь…
Я даже тесто стряхивал с ложки на сковородку каким-то прощальным, как бы обрывающим что-то движением. Но не подумайте, что мне было плохо – нет, вовсе нет! – просто я так устроен, что грусть-печаль часто приходит как раз в те минуты, когда всё хорошо и когда, кажется, нечего больше желать. Я словно знал: всё, что будет потом, будет хуже вот этого вечера на реке, этой груды углей со шкворчащей на них сковородкой и этого чувства покоя, который приходит так редко и так ненадолго.
Края лепёшек уже подрумянились, пора было их переворачивать. Я загодя выстругал плоскую щепку (вспомнив, что именно щепкой пользовались герои любимой книги) и теперь, поддевая лепёшки, одну за другой перебрасывал их наизнанку. Шкворчание теста вмиг сделалось громче, хлебный дух поплыл над костром, и какая-то птица (или, быть может, летучая мышь?) так бесшумно и низко скользнула над головой, словно ей тоже хотелось лепёшек.
Не терпелось и мне. Подцепляя лепёшку ножом, обжигаясь и дуя, кусая хрустящий обугленный край, я начал есть – спору нет, было вкусно, – но всё же в азарте еды, в торопливом жевании – в этом всём оставалось уже очень мало от той мечты о лепёшках, с которою я отправлялся в поход. Можно сказать, я свою мечту съел; и мне становилось так грустно и так одиноко, как будто я в самом деле не знал, как жить дальше. Костёр догорал, от реки поднимался туман, становилось сыро и зябко, и ночь, что была у меня впереди, представлялась огромной и неодолимой…
ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА. В годы нашего студенчества килограмм ливерной колбасы стоил шестьдесят копеек – деньги пустяшные, – и это было хорошим обедом для трёх-четырёх человек. Ещё брали буханку чёрного хлеба («Орловский», 16 копеек); не исключалась и пара бутылок портвейна. Самый дешёвый, на этикетке которого красовались три цифры «семь» – мы его называли «три топора», – стоил рубль с небольшим; самый же дорогой, «Молдавский» – по-нашему, «мужик в шляпе», – тянул, если не ошибаюсь, аж на три семьдесят.
Сейчас я и сам удивляюсь, почему так отрадны воспоминания о той простецкой еде и даже о мизерных ценах тогдашней поры. Или вообще всё, что связано с молодостью, с годами становится всё драгоценнее, или и впрямь та эпоха была исключительной и неповторимой и всё, что напоминает о ней – даже мелочи быта, – имеет особую ценность?
Итак, ливерная колбаса. Выйдя из магазина с её тяжелым и гладким, пахучим кольцом, так приятно свисавшим с ладони, мы решали: а где же сядем перекусить? Смоленск замечателен тем, что почти в центре города есть заповедное место – старинная крепостная стена. Вот к подножию этой стены мы обычно и направлялись. В те годы она была полуразвалена, словно поляки только что осаждали её, а героический Шеин возглавлял оборону Смоленска, и пустынные склоны холмов за стеной выглядели примерно так же, как и в шестнадцатом веке. Вот как раз там, у подножия башни Орёл, мы и начинали наш студенческий пир.
Голод и молодость – лучшие из поваров. Потом, уже в зрелости, приходилось мне пробовать кушанья и поизысканней; но никакое из них не сравнилось с краюхою ноздреватого серого хлеба и куском ливерной колбасы. Помните, как колбасная оболочка туго лопалась на изгибе и упоительный ливерный запах окутывал нас, словно облако?
А портвейн? Как забыть о портвейне, об этой тяжёлой бутыли, которая на тогдашнем жаргоне называлась «огнетушитель», упругий пластиковый колпачок на которой сидел так плотно, что снять его было непросто? Уж чем только мы ни пытались сдёрнуть его – зубами, ногтями, ключами, – пока наконец не поддевали и не срывали крышку какою-то ржавой железкой (быть может, осколком военной поры?), что валялась в пыли под стеной.
И почему-то сама прочность и плотность пластмассовой крышки бутыли нас радовала. Казалось, уж если предмет заурядный – какая-то крышка – настолько надёжен и несокрушим, то как же прочна должна быть та жизнь, что нас окружает? Мерещилось, что нас всех – всю нашу эпоху, со всем её движимым и недвижимым содержимым, – защищает от сквозняков перемен какая-то тоже незримая крышка, какой-то колпак, что надет на всех нас, и, пока эта крышка не сдёрнута, портвейн будет крепок и сладок, а колбаса будет очень дешёвой и вкусной, и мы все будем жить словно в раю, где время остановилось.
Но всё оказалось иначе. Не успели мы там, под старинной стеной, попить вволю портвейна и вдоволь наесться ливерной колбасы, как страна и эпоха, любимые нами, исчезли. Не успев повстречаться, мы, сами не зная того, уже провожали эпоху, а заодно уж прощались и сами с собой, молодыми.
Но ещё поразительней то, что всё сохранилось: и молодость, и руины старинной стены, и бутылка портвейна с тугою пластмассовой крышкой, и стая стрижей, свиристевших над нами, и тот тугой хруст, с каким мы ломали кольцо ливерной колбасы. Когда я вспоминаю об этом, потом кое-какие из воспоминаний записываю, потом перечитываю то, что сумел записать, былое встаёт предо мною не просто таким же, как было когда-то, а более ярким и достоверно-живым.
И вот это конечно же чудо – то, что память и слово способны не просто бороться со временем, а могут ещё воскрешать былое в лучшем, преображённом виде. Ведь даже та ливерная колбаса, которую я уплетал, запивая портвейном, в какой-то далёкий, почти незапамятный день, тогда она мне не казалась настолько вкусна и желанна, как кажется в эту минуту, когда я словно чувствую пальцами её гладкую кожу, вдыхаю её пряный запах и когда всё прочнее во мне убеждение: ничто не исчезает бесследно…
ЛОЖКА. Что, казалось бы, проще, обыденней ложки? Каждый день мы берём её в руки, зачёрпываем ею суп или кашу или позвякиваем в чайном стакане, почти не обращая на неё, ложку, внимания. Но, если вдуматься, этот предмет не так прост. Уже одно то, что ложке посвящены десятки пословиц и поговорок, заставляет взглянуть на неё с интересом. Тут и «дорога ложка к обеду», и «одною ложкою щи хлебаем», и «ложкой кормит, а стеблем глаз колет», и пресловутая «ложка дёгтя в бочке мёда»… Читатель, если желает, сам может продолжить этот ряд поговорок и присказок.
А ведь ложкою, кстати сказать, богаты далеко не все цивилизации или народы. Кто-то за трапезой обходится вовсе без приспособлений – первобытным народам они неизвестны, – а кто-то, имея возможность есть ложкой, сознательно отказывается от неё. Известно же, что главная пища Азии, плов, гораздо вкуснее, если брать его прямо пальцами. Иногда вместо ложки используется ломоть хлеба – так, я множество раз наблюдал, как индусы черпают острейшее чечевичное хлёбово куском лепёшки-чапати. А японские или китайские палочки, из которых у европейских туристов вываливается еда, но которыми аборигены пользуются так виртуозно?
Так что давайте подробнее поговорим о старинной, испытанной нашей подруге – о ложке. А начнём мы, пожалуй, с того, что самая первая ложка – это наша ладонь. Кому не случалось, страдая от зноя, напиться холодной воды из горсти, а потом отереть ледяною ладонью пылающий лоб? По образу нашей ладони и создана ложка; можно сказать, это самый первый протез – то есть искусственный орган, – который придумало человечество.
Первая же настоящая ложка, с которой мы с вами встречаемся ещё во младенчестве – та, что дарится нам «на зубок», – она обычно серебряная, очень нарядная, и на черенке её красуется забавный зайчик или медвежонок. И молодые родители просто млеют от счастья, когда эта ложка вдруг стукнет о первые зубки младенца…
Но я своей младенческой ложки не помню. Зато хорошо помню ложку немецкую, оставшуюся с войны: она была склёпана с вилкой и складывалась вдвойне – так, что было удобно сунуть её хоть в карман, хоть в сапог. Эта ложка стала настоящей реликвией нашей семьи: отступая во время сражения под Курском, немецкий солдат обронил её в хате деревни Камыш, где жил тогда мой трёхлетний отец, и потом я, родившийся через двадцать лет после войны, часто вертел в руках этот военный трофей. Уже по одной этой ложке можно было понять, до чего же могучею силой был вермахт и чего нам, русским, стоило его сокрушить. Уж если простая солдатская ложка была сделана так основательно – её заклёпка не разболталась за столько лет, – то что же тогда говорить об автоматах и пулемётах, о самолетах и танках? Чтобы победить армию, вооружённую в том числе и такими вот ложками, в семье Панюковых (это семья моей бабушки по отцу) из четырёх братьев, ушедших на фронт, пали трое – вот цена этой ложки, брошенной в хате деревни Камыш отступавшим немецким солдатом.
Большинство из тех ложек, что мне приходилось потом держать в пальцах – детских, мальчишеских, подростковых, – в памяти не задержались. Но вот что меня удивило и что я запомнил, так это дюралевые гнутые ложки родного советского «Общепита». Они, небрежно сполоснутые тёткой-посудомойкой, лежали обычно в гремящих железных лотках, и большинство из них было странным образом покорёжено. Черенок был то завит винтом, то согнут в дугу, то вовсе отломан, словно эти казённые ложки нарочно терзала и портила неведомая сила. А потом, полюбив «Общепит» и проведя немало часов в его сумрачных недрах, я не раз наблюдал, как подвыпившие мужики увечат эти самые ложки – как их крутят и гнут в грубых пальцах, как черенки чуть ли не завязывают в узел – и какая при этом тоска наполняет хмельные, угрюмые взоры. Словно жизнь была мужикам так тяжела, так давила и мучила их, что это мучение неосознанно передавалось их пальцам, терзающим ложку, отчего она, бедная, и превращалась в уродливо скрученный жгут.
Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя, так это исконно крестьянскую, деревянную, её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов избяной деревенской Руси – той, есенинско-клюевской, канувшей в Лету, – деревянная ложка доносит до нас отголоски уклада веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент или предмет декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под «Камаринского» или под «Барыню», напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.
А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры, то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать, её только держать, как цветок, за стебель да любоваться её красочным буйством.
Но когда всё же ешь деревянною ложкой, то возникает чувство, что ты поедаешь именно ложку, а сама еда – это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены – именно «съедены», как о них говорят.
Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянною ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку, с теми же блюдами, но оснащенными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.
Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка – своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста – даже, можно сказать, простодушно-наивна, – она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других), но в то же самое время душевна, тепла и нарядна и очень талантлива. Деревянная ложка – это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.