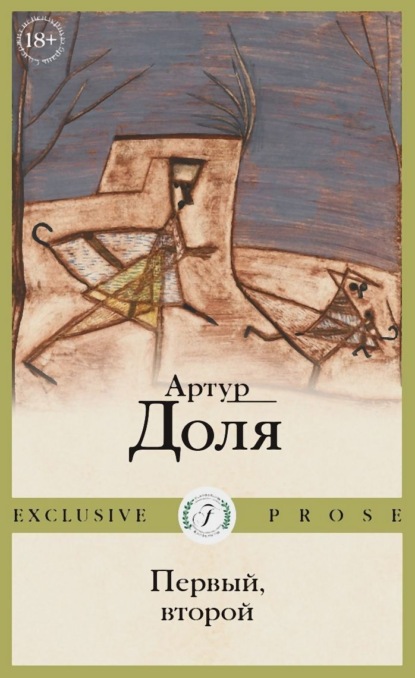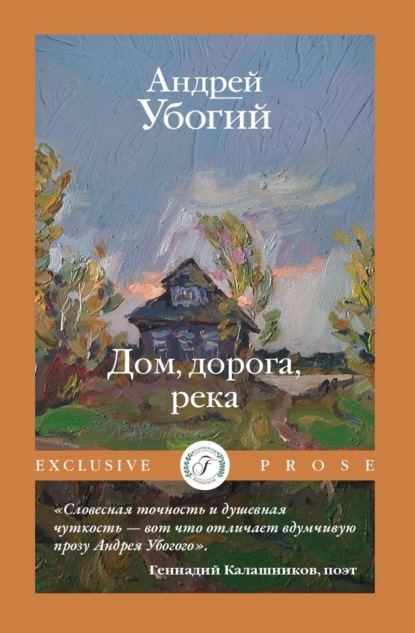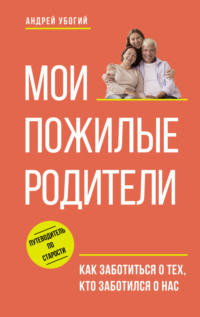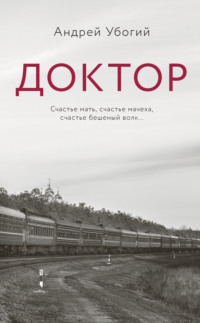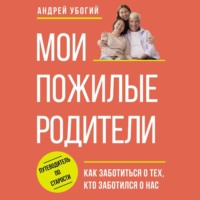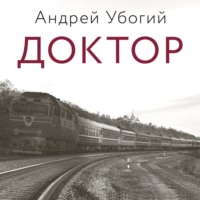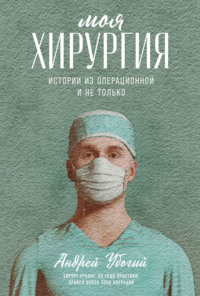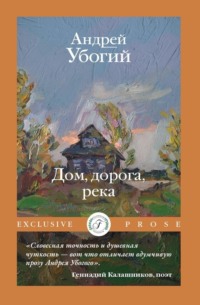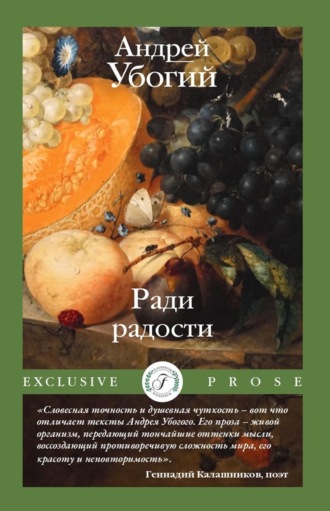
Полная версия
Ради радости
А как было приятно её открывать! Когда клык консервного или даже простого ножа пробивал жесть, выступала аппетитная капля томатного соуса, которую непременно хотелось слизнуть. Когда же – с нажимом – взрезалась и отгибалась жесть крышки, глазам открывались продолговатые рыжие тушки, лежавшие хвост к голове. Конечно, тогда, в те далёкие годы, когда юный голод тебя торопил, ты не очень-то долго раздумывал, прежде чем подцепить пару килек (ножом, если не было вилки) и отправить их в рот. Но теперь, когда огнь желаний угас и жажда жизни утолена, можно спокойно порассуждать о консервах как таковых.
Ведь только подумать: вот эти рыбёшки, если бы их предоставить природе, они бы давно уже сгинули где-то в пучине морской и пошли на корм чайкам или каким-нибудь кашалотам, они бы исчезли, как будто их никогда не бывало. А в жестяной этой капсуле они оказались изъяты из времени, сохранены – разве это не чудо?
К тому же консервы нередко бывают вкуснее, чем натуральный продукт. Вот и свежепойманная килька, если пожарить её, на мой вкус, проигрывает себе же самой, но в томате. То есть некая вещь, превращаясь в консервы, не только избегает тления, но ещё и становится лучше.
Но не в этом ли – то есть в сохранении и в улучшенье реальности – и состоит задача искусства? Взять что угодно – пейзаж ли художника или роман писателя, – жизнь, что показана там, будет, во-первых, защищена от тлетворного действия времени, а во-вторых, она, скорее всего, будет лучше, чем тот образец, с которого списана книга или картина.
Выходит, искусство и занимается по преимуществу консервацией. Начиная с этого места, можно спеть целую оду консерватизму, как направлению мыслей и образу жизни, но это завело бы нас очень уж далеко от кулинарного словаря.
Да, «килька в томате», о которой я вспоминаю, была настоящим произведением искусства. И вот тут есть один тонкий момент. Почему-то прекрасным становится только то, что уже отдалилось от нас, ушло в прошлое, а то, из чего состоит день сегодняшний, кажется мелким, неважным и недостойным внимания. Предложи мне сейчас ту самую кильку в томате, о которой я здесь вспоминаю с такой ностальгической нежностью, я, скорее всего, откажусь от такого подарка. Не сама же мне килька нужна – нет, мне нужна моя память о ней, мне нужен тот образ, тот идеал, что живёт в моём сердце, мне нужен, иными словами, я сам, как-то странно, таинственно и необъяснимо сроднившийся с этим, почти что случайным предметом – с банкой «кильки в томате».
Или и вправду, о чём бы ни рассуждал человек – хоть о звёздных туманностях или Всемирном потопе, – но если проникнуть в глубинную суть, в сердцевину его слов и мыслей, то окажется, что говорит-то он, в сущности, лишь о себе же самом? А если так, то не есть ли вот этот, как я называю его, «Кулинарный словарь», по сути, попытка автопортрета? Из блюд и напитков, из тех обстоятельств, в которых я с ними встречался, я пытаюсь сложить ту картину, в которой надеюсь увидеть себя самого…
КНЕДЛИКИ. Кнедлики – это забавное слово, похожее на имя какой-нибудь птахи, впервые я вычитал в книге о Швейке. И я долго воображал, что кнедлик – это нечто немыслимо вкусное. Ну, ещё бы, ведь на страницах романа Гашека герои говорят о кнедликах часто и неизменно с любовью, доходящей до обожания. Кажется, кнедлик – символ всего, чем так дорожит человек: символ уюта, покоя и мирной, наполненной тихою радостью жизни. В сущности, весь знаменитый роман и написан за кнедлики – против войны.
Но реальность, как ей и положено, не оставила камня на камне от моих юных грёз о прекрасных, как девушки, кнедликах. Настоящие пражские кнедлики, с которыми мне довелось познакомиться, оказались комками серого теста, лежащими в липко-мучнистой подливе. Даже на вид они были противны, но вкус оказался ещё хуже внешности: что-то вязкое, пресное, да ещё и назойливо липнущее к зубам. Не раз вспоминал я пушкинские слова (сказанные им, правда, о калмыцком чае): «Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-либо гаже». В общем, моё впечатление от встречи с кнедликами было примерно таким: я ждал встречи с прекрасною юною девушкой, умной, изящной, веселой, а мне вместо неё привели дебелую сонную бабу с полуоткрытым ртом и оловянно выпученными глазами.
Но нее спешите ставить на кнедликах крест. Жизнь гораздо сложнее и милосерднее к нам, чем это кажется с первого взгляда. Пожив в Праге несколько дней, нагулявшись по её средневековым улочкам и старинным мостам и, разумеется, выпив за эти дни столько пльзеньского, сколько в России не выпиваю за год, я стал чувствовать: чего-то мне недостаёт. И я долго не мог понять чего именно, пока в очередной «пивнице», куда я зашёл за очередной парой кружек, не увидел, как за соседним столиком молодой парень жадно ест кнедлики. И я вдруг почувствовал, что тоже хочу съесть полдюжины вот таких вязких, непропечённых комков, которые словно замажут внутри меня некую брешь, ту, в которую тянет сквозняк беспокойства и неизбывной тревоги. Да, именно кнедликов мне не хватало – не хватало покоя, который приходит, когда неторопливо пьёшь пиво, глотая одну за другой эти сытные пломбы из вязкого теста.
Пиво и кнедлики неотделимы от Праги, а Прага непредставима без них. Именно кнедлики, вместе с пивным хмелем, создают ощущение сказочно-бесконечного сна, в котором бредёшь, уже не надеясь, да и не желая проснуться. Кнедлики – своего рода мост в пражскую сказку, то, без чего очень сложно почувствовать неторопливо-дремотную пражскую жизнь.
И, любя Прагу – а её нельзя не любить, – нельзя не полюбить и её полномочного представителя: кнедлика. Он – как бы это сказать? – позволяет почувствовать счастье обыденности. Ведь счастье лежит на избитых дорогах, эта мысль Шатобриана очень, кстати, нравилась Пушкину. И не в том ли глубокий урок чешских кнедликов, что они словно нам говорят: слушай, да брось ты все эти дурацкие поиски, это стремление вдаль, эти мечты и надежды, в которых проходит и гаснет твоя беспокойная жизнь; счастье – оно всегда рядом. Протяни только руку – и вот пред тобою тарелка мучнистых комков, которые хоть и не блещут красой или вкусом, но зато безотказно насытят тебя, успокоят-утешат и никогда не обманут. И ещё, говорят они нам, с той красоткой, о которой ты, парень, вздыхаешь, ох, нахлебаешься горя, зато, может быть, будешь счастлив с дебелою доброю бабой, которая телом и сутью похожа на мягкий, податливый кнедлик…
Чехи, я думаю, стали счастливою нацией с тех самых пор, как признали, что лучше кнедлик в руках, чем журавль в небе. А вот мы, русские, так и будем несчастны, пока будем мечтать, тосковать и вздыхать по прекрасным, всегда улетающим вдаль журавлям…
КОНЬЯК. Так уж случилось, что из всех видов спиртного коньяк мне знаком лучше всего: за тридцать лет хирургической практики уж чего-чего, а коньяков я перепробовал множество.
И вот я до сих пор изумляюсь: как возникло, а затем закрепилось это чудовищное заблуждение, что коньяк, дескать, закусывают лимоном? Конечно, люди доверчивы, и убедить их можно в чём угодно, даже в том, что чёрное – это белое и что Земля покоится на слонах или на носороге. Но лимон к коньяку – это уж, знаете, слишком!
И вот я хочу сказать – нет, даже крикнуть! – люди, опомнитесь! Вот садитесь вы в кресло с коньячным бокалом в руке – желательно, чтобы коньяк был хорошим, – и, глядя, как за окном тихо падает снег (идёт дождь – тоже неплохо), дожидаетесь, когда коньяк потеплеет от вашей ладони. Это важно: холодный коньяк ещё хуже, чем тёплая водка. По окну оплывают потёки дождя или талого снега, а по стенкам бокала – коньячные «ножки», маслянисто-густые потёки напитка, который мало-помалу перенимает ваше тепло и распускается, словно цветок, облаком крепкого аромата.
Удивительно, как всё связано, как всё рифмуется в мире: скажем, оплывы дождя на стекле и потёки на стенках бокала; или золотистый цвет коньяка с золотом липовой кроны напротив окна. А следом приходит и мысль, что хороший коньяк – это сгусток солнца, который донёс вот до этой минуты холодного, хмурого дня частицу полдневного зноя и света, что лился в каком-то далёком году и в далёкой стране на поля винограда. И вот только теперь, найдя точку гармонии между коньячным бокалом, желтеющей липой в окне, воспоминанием о лете и тем, как наплывы дождя омывают стекло, – вот только теперь можно пригубить коньяк. Душистый огонь растечётся во рту и согреет гортань, а потом мягко опустится к сердцу. И ещё не уляжется тёплая эта волна – голова уже чуть зашумит, как бывает, когда ты выходишь из тени на яркое летнее солнце и тебя накрывает облако зноя.
Теперь время улыбки. Вообще, качество коньяка определить очень просто. Если, сделав глоток коньяка, ты не сморщишься, а улыбнёшься, значит, это хороший коньяк. Улыбка выразит многое – и главным образом благодарность напитку, который согрел твоё тело и душу и позволил – в который уж раз! – ощутить, до чего же при всех своих тяготах жизнь хороша…
Но если вы, не дай Бог, в эту минуту улыбки подхватите с блюдца и бросите в рот кислый ломтик лимона, гармонии как не бывало. Ваши губы скривятся брезгливой гримасой, вас всего передёрнет, и двери рая, которые только что приоткрылись для вас, снова захлопнутся.
Вот поэтому я и прошу: когда пьёте коньяк, даже не прикасайтесь к лимону! Коньяк, если уж его надо закусывать (а хороший коньяк закусывать вовсе необязательно), признаёт только две настоящих закуски: ломтик дыни или спелый персик. И дыня, и персик – они не прогонят улыбку с ваших уст, пригубивших коньяк, но продлят её и укрепят, ведь дыня и персик – такие же сгустки полдневного солнца, как и душистый коньяк, маслянисто стекающий по тюльпану бокала…
КOPA КОДИНЫ. Кодина – река в Архангельской области, по которой мы шли с другом Лёшей, а кора – это то, что мы ели в походе.
Река, по которой недавно вели молевой лесосплав, рыбой была небогата, и за целый день мы поймали лишь несколько окуньков. Хочешь не хочешь, надо было добывать пропитание не в реке, а в лесу. Кора – точнее, заболонь – это первое, что приходило на ум и что раздобыть было проще всего.
Ободрали мы, помнится, липку. Было жаль губить деревцо, но не более жаль, чем прикалывать ножом рыбу, ещё трепещущую в руке. Жизнь жестока: в ней все друг друга едят, и даже смерть не выводит нас из всеобщего круговорота еды. Вот мы съедим сейчас липку, а нами когда-нибудь станут питаться новые липки, которые будут корнями тянуть наши соки. «Так что свой долг липкам со временем мы отдадим», – утешал я себя, шинкуя ножом на седёлке байдарки сырые, упругие ленты липовой заболони.
Думалось и о том, что кора – еда нищеты, почти голода. Если дело дошло до коры, человек на краю, у черты, за которой голодная смерть. Хотя, казалось бы, почему не питаться корой постоянно? Чем она так уж хуже какой-нибудь репы иль редьки? Да, пожёстче, да, варить её нужно подольше, чем свёклу или картошку, но по составу это те же самые углеводы, из которых состоят и любые растения. Так что, пока есть кора и желудок способен с ней справиться (а способен ли – это мы скоро узнаем), помирать с голодухи вроде как рановато.
Вода в котелке забурлила, и Лёша – он у нас главный, да и единственный повар в походах – высыпал в неё миску мелко нарезанной липовой заболони, посолил и для навара бросил туда же шесть окунёвых голов.
– Вышак! – объявил он. – Через час будет готово.
Час тянулся томительно. На реке главный способ занять чем-то время – это взять спиннинг да побросать блесну. Я вышел к торчащим из воды сваям разрушенного моста – река меж них вспучивалась буграми – и долго пытался провести «вертушку» по самой стремнине, по мускулисто напрягшимся струям. Но блесна была слишком легка, и река выбрасывала её на поверхность. Пару раз показалось, что была хватка, но я не был уверен, что блесна просто-напросто не ударялась о сваи моста или донные камни. Кончилось тем, что блесна намертво зацепилась за сваю на самой стремнине, там, куда лезть за ней было опасно: не хватало ещё напороться на старые гвозди. Да и вода была ледяная: стоял как-никак конец сентября. Пришлось, натянув лесу до звона, обрывать её и возвращаться к костру без блесны и без рыбы.
Зато кора уже сварилась, и я с интересом стал её пробовать. Вкус её неожиданно оказался очень даже неплох. Представьте себе очень жёсткую курицу, вываренную почти до безвкусия, но с отголоском горчинки и сладости, да ещё с лёгким запахом рыбы от окунёвых голов. В общем, было не просто съедобно, но даже и вкусно. Только вот челюсти уставали жевать волокнистую жёсткую массу; хорошо, что мы её нашинковали достаточно мелко, и можно было просто глотать один кусок за другим.
– Думаешь, усвоится? – спросил я товарища.
– Поживём – увидим, – резонно ответил он мне. – Ну что, ещё по тарелочке?
Мы съели весь котелок. Чувство сытости так меня оглушило, что я едва сумел встать и побрёл искать место для сна. Сон вообще составляет важнейшую часть обеда, особенно русского. Говорят, и Лжедмитрий был уличён в самозванстве, потому что он не спал днём, после обеда, что для русского было почти кощунством. А уж в походе, устав после гребли, да набив себе пузо варёной корой, вздремнуть было необходимо.
Лёг в мелком осиннике, чья огненная листва трепетала вверху, как ручей, непрерывно шумящий на перекате. Сон накрыл сразу, я даже не стал, как обычно, кряхтеть и ворочаться, поудобней укладываясь между корней, и вот уже, уносимый полуденной дрёмой, я видел нос лодки, с которым сближались шумящие, пенные буруны переката. Но во сне отчего-то я был уверен, что мы пройдём перекат, даже не стукнувшись килем о камни. Может, причиной такого спокойствия был именно полный желудок? Набитый варёной корой, я был словно закован в броню, – что, в самом деле, могло одолеть человека, который питается липовой заболонью, а потом спит на земле, ещё и получая от этого удовольствие?
КОРНЕВИЩЕ РОГОЗА. Долгое время я не любил сырые места: болота, пойменные луга и речные урёмы, охвостья прудов – те низины, где между кочек почмокивала вода, гундосили комары и где ноге не было твёрдой опоры. И в этой своей неприязни я был не одинок: по народным поверьям, именно вот в таких непролазных и топких местах обитает различная нечисть.
Но после многих походов – причём без запаса еды: что нашёл, то и съел – я стал даже к болотам относиться совсем по-иному. Можно сказать, я стал ожидать встречи с ними, радуясь, когда впереди намечалась низина – обычно её означали сухие деревья, – когда земля под ногами сырела, пружинила и приходилось уже не брести напролом, а перескакивать с кочки на кочку. Причина же радости, с какой мы встречали болотца, была очень проста: в сырых местах много рогоза – растения, которое не единожды выручало нас в «голодных» походах. Если не ошибаюсь, по содержанию крахмала в корневищах рогоз превосходит картофель; нам даже кисель доводилось варить из него.
Конечно, рассуждать-то о ценности рогоза просто, а вот как раздобыть метр-другой корневища? Ведь это же надо в конце непростого походного дня лезть в болото. Одно представление о комарах и холодной болотной трясине уже вызывает озноб. Но делать нечего: голод не тётка. Разувшись и сняв штаны, со вздохом ступаешь в болотную ржавую жижу. Податливый торф проседает, урчит под ногами, и вода начинает кипеть от болотного газа. В эту минуту всегда вспоминается «Макбет»: «Земля, как и вода, рождает пузыри – и это были пузыри земли…»
Да вот они, эти самые пузыри, поднимаются вокруг твоих вязнущих ног целым облаком и обдают резким запахом серы. Так и кажется, следом за ними появится кто-то ещё – сердце сжимается то ли от холода, то ли от страха, – и, сам удивляясь себе, по-старушечьи торопливо осеняешь себя крестным знамением.
Цель же твоя – вон она, впереди, где стеной стоят высоченные стебли рогоза. Каждый стебель украшен коричневым толстым цилиндром, напоминающим шомпол эпохи наполеоновских войн. Кое-где эти цилиндры растрёпаны, и их рыжий пух покрывает болотные кочки и окна застойной воды.
Подобраться к рогозу непросто: приходится выдержать целую схватку с трясиной. Уже пожалел, что, раздеваясь, не снял и трусы, придётся теперь их сушить. Но вот наконец ухватился за крепкий, прогонистый стебель рогоза и потянул его на себя. Из ржавой воды с чмоканьем вылезло узловатое корневище. Оно всё в буграх и наростах, в свисающих слизистых нитях, в болотных червях и личинках стрекоз. Да, экземпляр мне попался отменный: он толщиной почти в руку, и погонного метра вполне бы хватило на суп. Но его сложно чистить: поди-ка отмой-отскобли эту липкую грязь да срежь все наросты и корки. Мы поступаем проще: берём только почки, что спрятались в пазухах корневища. По виду они напоминают чесночные гладкие дольки; двух-трёх горстей таких почек вполне хватит на ужин для двоих.
Я минут уже десять копаюсь в болоте: вытаскиваю, одно за другим, корневища, рассматриваю их и отламываю сочно хрустящие почки, удивляясь их гладкости, белизне, чистоте, пока не наполняю ими карман «брезентухи». «Пожалуй, хватит», – думаю я – и вдруг удивляюсь тому, что мне вовсе не хочется вылезать из болота, в которое так не хотелось недавно входить. Я привык-притерпелся и к хлюпанью этой вот жижи, которая больше не кажется мне ледяной, и к податливой вязкости торфа, и даже к сернистому запаху донного газа, который щекочет мне ноги. Я вошёл в этот мир, почти принял его – как и он почти принял меня, – и даже болотные птахи перестали меня опасаться. Вот воробей – и откуда он взялся в болоте? – присел на согнувшийся стебель рогоза и начал азартно трепать его рыжий цилиндр, так, что пух полетел над трясиной. Вот пёстрый дятел припал к сухой ели, торчащей из топи, и выдал весёлую дробь. А ворон, огромный и угольно-чёрный, пролетел надо мною так низко, что я ощутил колыхание воздуха от его тугих взмахов.
Выходит, всё дело в том, как мы сами относимся к миру, и он отвечает на наше к нему отношение, становясь и добрее, и ласковей к нам. Вражда порождает вражду, а добро и доверие порождают добро – вот какое открытие – вместе с рогозом – я выношу из болота. Что ж, ради этого стоило лезть в ледяную жижу. Редко когда я бывал таким грязным, как в ту минуту, когда вылезал из болота, и редко когда бывал так просветлён и спокоен. Даже тех комаров, что накинулись, алчно звеня, на мои голые ноги, – даже комаров я не хлопал, как раньше, а только сгонял, улыбаясь при этом какой-то блаженной улыбкой…
КОТЕЛОК. Как вам такая картина: вечерний туман, низкий берег реки и костёр, над которым висит котелок? Для меня это зрелище сызмала невыразимо отрадно. Оно означает, если попробовать всё же выразить это невыразимое чувство, что всё идёт правильно, в мире царят и покой, и порядок: раз день завершается тем, что костёр тихо-мирно потрескивает на речном берегу, огонь лижет дно котелка, а в самом котелке варится каша. Чувства и мысли, похожие на «жизнь удалась» или «всё слава Богу», – они возникают тогда даже не в голове, а скорей где-то в сердце.
Потому можно сказать, что вечерний костёр и висящий над ним котелок для меня есть не просто устройство для приготовления пищи, а нечто сакральное – то, без чего мой мир был бы неполон. В конце концов, каждый из нас строит свой личный космос, и в моём мироздании котелок над костром почти так же необходим, как восход Солнца или речь на родном языке. Наша жизнь обязательно чем-то должна быть согрета – чем-то очень простым, человеческим, близким, – и когда я мешаю какой-нибудь струганой палкой бурлящую кашу или снимаю пену с ухи, мне тогда кажется, что не так уж я и одинок в этом мире, под этими звёздами, что так чисто и холодно светятся над головой…
В предмете значительном – таком, как котелок, – мелочей быть не может. Например: как мы подвесим его над огнём? Привычки, традиции, флора и почва тех мест, где ты оказался с походным своим котелком, – всё влияет на способ подвески. Лучше всего то, что попроще: две рогулины, вбитые в землю, и перекладина между ними, продетая в дужку котла. Впрочем, на «северах» костровая подвеска ещё проще: там рогулину ставят только одну. Перекладина над ней торчит наискось: на её верхнем конце, над огнём, висит котелок, а нижний привален увесистым камнем. Но такая конструкция, на мой взгляд, слишком уж напряжённо-тревожна, и это её напряжение неизбежно передаётся душе. Где нет симметрии и равновесия, нет и покоя; а покой-то как раз в предвечерние эти часы у костра нам дороже всего.
В горах Крыма, где рогульки не вбить, приходилось устанавливать котелок на камнях. Получалось подобие очага, и сухой можжевельник пылал под котлом, на горячем полынном ветру.
А на песчаных отмелях рек случалось устанавливать котелок на три сырых колышка, вбитых прямо в кострище: вода в котелке закипает быстрее, чем эти колышки перегорают. Есть ещё тросы, которые можно подвесить между деревьями; есть складные треноги; есть решётки-жаровни, на которые ставится котелок. Но это всё приспособления скорее для пикников, чем для серьёзных походов: не тащить же с собой в рюкзаке треногу или жаровню?
Как разнообразны способы подвески котелка над костром, так же разнообразны вес, форма, размер и самих котелков. Помнится, много лет котелком нам служила помятая и закопченная дюралевая кастрюля, к ручкам которой была подвязана дужка из проволоки. Нынче в моде котелки-каны – ёмкости продолговатой бобовидной формы, которые можно вставлять друг в друга, словно матрёшек. Нет слов, удобно. Но всё же привычнее котелок-полусфера, тот самый, классический, который и вызывает в душе все те мысли и чувства, о каких я писал выше. Именно такой котелок гармонически соотносится со всем, что его окружает: и округлой зелёной палаткой, стоящей поодаль, и жёлтою половинкой луны, что восходит над лесом, и с той полусферою звёздного неба, что накрывает нас летнею ночью.
А сколько загадок таит в себе котелок – вещь, казалось бы, примитивно простая! Как объяснить, например, вот такое туристическое поверье (подтверждавшееся в моём личном опыте множество раз): если, не отрываясь, смотреть на воду, налитую в котелок, то она очень долго не закипает? Вода словно стесняется нашего взгляда, словно та сокровенная встреча огня и воды, что совершается в недрах котла, не должна быть доступна случайному или равнодушному зрителю.
Но, даже зная об этом мистическом свойстве, отвести глаза от воды, начинающей закипать в котелке, почти также трудно, как, скажем, от раздевающейся на берегу юной купальщицы. Вот от стенок котла начинается едва видимое струенье, вот по днищу во множестве высыпают жемчужные пузыри, которые наливаются, зреют, растут, и вдруг, трепеща, отрываются и взмывают к поверхности. От воды поднимается пар, который мешается с дымом костра, а тот, расстилаясь по-над росистой травой, смешивается с туманом, слоями ложащимся над луговиной. И всё же это ещё не кипение; должно пройти время, чтобы уже не отдельные пузыри, а целые их ручейки заструились от днища и побежали к поверхности, чтоб ожившей воде стало тесно внутри напряжённо подрагивающего котелка.
И вот когда она вдруг замутится, взбугрится, а потом начнёт даже кидаться за борт котелка, с шипением заливая костёр, – вот только тогда время сыпать крупу.
Кружка гречки, опрокинутая в бурлящий котёл, мгновенно останавливает кипение и ложится по дну рябым, ровным слоем. Но чуть погодя этот слой начинает подрагивать – так родниковые струи приподнимают донный песок, заставляя его танцевать.
И вот уже затанцевала вся гречка. Рябые крупины взлетают всё выше и выше, потом они разбухают, и скоро котелок с гречкой напоминает не столько родник, сколько жерло небольшого вулкана. Лава гречневой каши непрерывно извергается из его недр, вспучивается и выворачивает саму же себя наизнанку. Когда каша поспела – а это легко понять даже на слух: она уже не клокочет, а всхлипывает, – самое время открывать тушёнку. Знаете ещё одно туристическое поверье: «Чем веселее свинья на банке – тем хуже тушёнка»? Но сегодня нам, кажется, повезло: мордочка нашей свиньи на редкость уныла.
Впрочем, тушёнку, я думаю, вы добавите в кашу и без меня. Я же пока посижу у реки, погляжу на вечернюю воду да запишу в блокнот мысли о котелке и о гречневой каше.
КРУЖКА ВОДЫ. Когда кружка воды означает спасение? Я говорю не о тех ситуациях, когда человек умирает от жажды в пустыне, но о самой обыденной жизни.
Вот представьте: вы просыпаетесь мутным и тягостным послепраздничным утром и, томимые жаждой, шарите в сумерках кухни, наливая неверной рукой вожделенную кружку воды. Ведь самое тяжкое в состоянье похмелья – именно та безотрадная сухость, в которую ты погружён, словно в жаркий песок. Кажется, что из тебя ушла жизнь, что не одно только тело, но даже душа (если б её можно было увидеть) потрескалась и почернела, как земля в засуху. И чудится, что из её пыльных трещин вот-вот начнут выбираться разные там пауки, сколопендры да аспиды…
Но ещё хуже, чем сухость, глубинное чувство вины. Может, ты накануне ничего и не сделал особо плохого, но сейчас виноват уже тем, что ты существуешь, и не можешь никак в этот тяжкий утренний час оправдать своё бессмысленное существование. Твоя нынешняя вина – вина перед всем, так сказать, бытием…