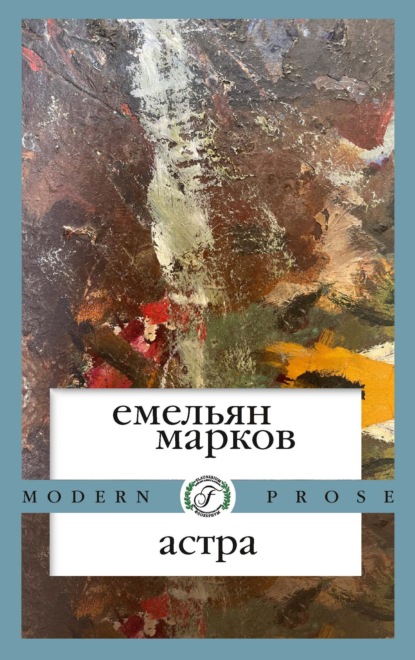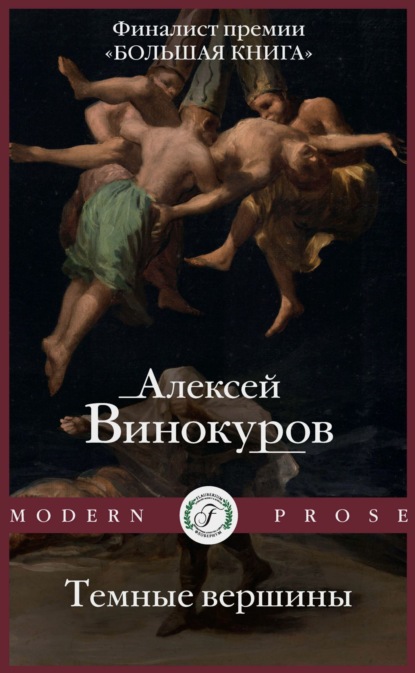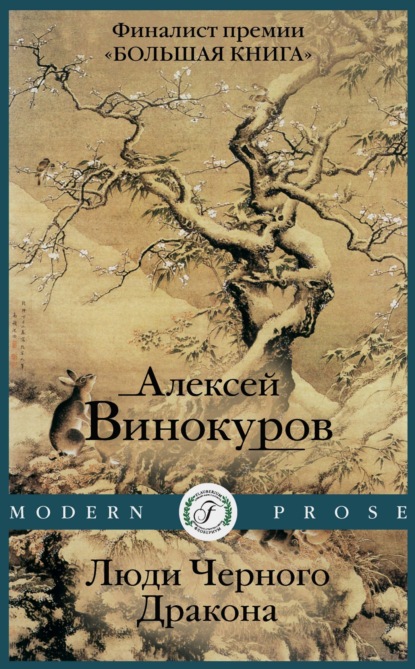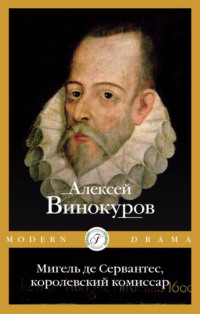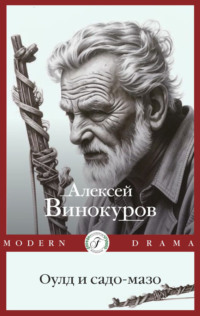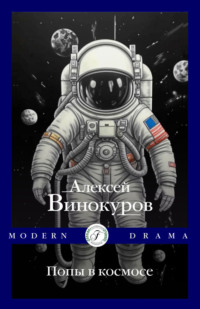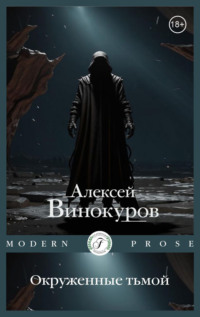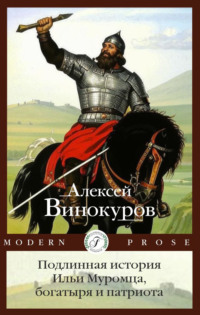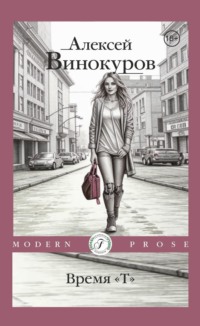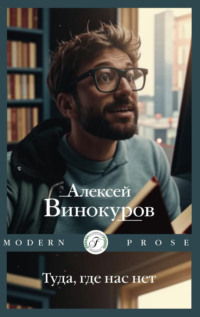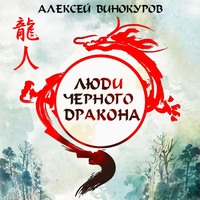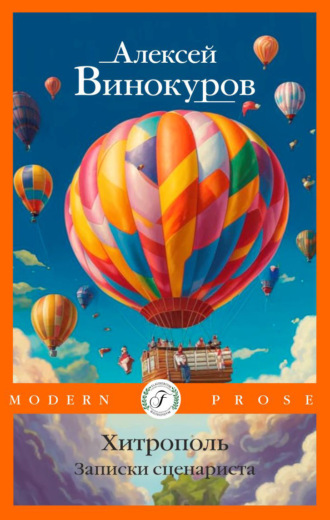
Полная версия
Хитрополь. Записки сценариста
Где был его последний подвиг и как он его исполнил, никто не знает. Но однажды Ворона ушел из жизни – еще проще и незаметнее, чем вошел в нее.
После смерти Вороны основных масонов в редакции осталось всего двое: Бобыль и Прошедовский.
Прошедовский был некрупный человек с вьющимися кудрями, знавший толк в пиджаках. На лице его царило такое выражение, как будто он с трудом подыскивает бранное слово… Найдя это слово, Миша Прошедовский немедленно устремлялся к пишущей машинке.
Писал Прошедовский размашисто, целыми полосами, на мелочи не разменивался. Любое событие в его изложении вырастало до размеров планетарных. Необыкновенно быстро Прошедовский прошел путь от простого театрального вурдалака до расследователя политических скандалов.
Прославился Прошедовский, среди прочего, своими письмами великим современникам. Письма были патетические и страстные. Писал Прошедовский всем, кого можно было отыскать в энциклопедии – королям, президентам, диктаторам, музыкантам, кинозвездам, художникам – одним словом, всем. И от всех своих адресатов гневно чего-то требовал: от президентов – увеличения надоев, от диктаторов – дальнейшего развития демократии, от музыкантов – справедливой жеребьевки чемпионата мира по футболу.
Отвечали Прошедовскому редко, но всегда нецензурно. Впрочем, это его не огорчало. Ему, как какому-нибудь допотопному йогу, не важен был результат – он получал удовольствие от процесса. Запри Прошедовского на необитаемом острове – и там бы он продолжал писать, а написанное читал бы с берега вслух рыбам и попугаям.
Завидовали Прошедовскому самой черной завистью, на которую способны только журналисты и театральные актеры. Завидовали его хватке, изворотливости, умению писать без запятых, одними простыми предложениями. Завидовали, наконец, всероссийской славе, такой сокрушительной, что в редакцию он ходил черным ходом – у парадного стояла очередь из желающих набить ему морду.
Больше всего, однако, завидовали его успешности и необыкновенной какой-то осведомленности – такой чудовищной, как будто конфидентом его был сам Сатана.
А, впрочем, рассказывать про Прошедовского незачем, достаточно просто взглянуть на его физиономию – и все станет ясно.
Совсем другое дело был Федор Михайлович Бобыль. С ним все время случались разные истории. Но, в отличие от Прошедовского, который железной рукой сам делал себе биографию, у Бобыля все происходило нечаянно, как бы само собой.
Есть люди, на лице которых с начала времен проставлено клеймо судьбы. Смотришь – и сразу видно: тот – неудачник, этот – жулик, а вон тот – богатый наследник. Такая же печать стояла на лице Бобыля. Длинная печальная физиономия его выражала добродушие и решительное нежелание вредить людям.
Бобыль, впрочем, не был революционером. Если ему приходилось обозревать статью главного редактора Матвея Никаноровича Хрустального, он всегда находил для него пару-другую добрых слов. Правда, закона сохранения энергии никто не отменял. Найдя пару добрых слов для главного, Бобыль вынужден был искать пару ругательных выражений для кого-то рангом пониже – так сказать, для сохранения равновесия. Потому что похвала только тогда и ценна, когда хвалят кого-то одного. А если все одинаково хороши – какая от этого радость главному редактору? Впрочем, это была такая мелочь, которую даже и в расчет брать нельзя, и привожу я ее только для того, чтобы читатель не думал, будто Бобыль был исключительно ангелом, за какие-то особые заслуги спущенным на землю.
Федор Михайлович Бобыль, как уже говорилось, был вовсе не ангел, он, скорее уж, являл собой тип старого еврея. На самом деле в то время ему было чуть больше сорока. Однако от возраста это никак не зависело – Бобыль был старым евреем от рождения.
Судьба его не жаловала. Регулярно он получал подлые удары сзади, спереди, с боков, и уж, конечно сверху.
– Совершенно незнакомые люди, – в ужасе рассказывал Бобыль коллегам, – вечером напали на жену. Отняли у нее сумочку, документы и 50 долларов наличными…
50 долларов по тем временам были очень большой суммой.
– Ну, хоть жену-то не изнасиловали? – сочувственно спрашивал кто-то.
– Уж лучше бы изнасиловали, чем доллары красть! – с досадой отвечал Федор Михайлович.
И весь день потом Бобыль ходил по редакции и повторял эту фразу на разные лады…
Вся жизнь Федора Михайловича – и притом совершенно против его воли – складывалась как череда неприличных шуток. Когда он стал редактором отдела юмора в «ГМ», у него не было даже своего кабинета. И тогда кабинет ему переделали из женского туалета, решив, что женщинам туалет ни к чему: закаленные суровой действительностью, они могут справлять свои потребности прямо в форточку.
Первое время женщины по доброй памяти все же забегали сюда. Однако вместо искомых писсуаров всякий раз находили только гостеприимно улыбающегося Бобыля. Видя такое дело, дамы пугались и даже начинали извиняться.
– Ничего, ничего, – бодро говорил Бобыль. – Делайте то, за чем пришли, товарищи, не обращайте на меня внимания.
Именно с этих времен в его характере появилась легкая философичность и склонность ничему не удивляться.
Конечно, найдутся люди, которые скажут, что все это – выдумка, что не мог такой уважаемый сатирик, которым является, что греха таить, Федор Иванович Бобыль, по доброй воле засесть в женском туалете, да еще и агитировать, чтобы всех вокруг насиловали за американские доллары. Но я повторяю, что такова была природа Бобыля: смешное шло впереди него, и жизнью своей он не управлял совершенно. Это вам скажет любой, кто его хоть сколько-нибудь знает.
Прошедовский пришел в «ГМ» гораздо позже Бобыля, так что туалета ему не досталось. По этой ли причине или по другой, но Бобыль с Прошедовским все время ссорились.
– Ваш Прошедовский – сволочь и наймит, – говорил Бобыль с необычной в старом еврее горячностью.
– Подождем суда истории, – загадочно кивал Прошедовский, когда ему доносили слова Бобыля.
– Он был сволочь и наймит еще в средней школе, – злился Бобыль. – И в детском саду – то же самое. Он как родился, сразу стал сволочь и наймит!
Бобыль знал, что говорит. По слухам, с Прошедовским они учились в одной школе и с тех пор друг друга на дух не переносили. Встречаясь в коридоре, никогда не здоровались. Прошедовский задумчиво смотрел мимо Бобыля куда-то вдаль, как бы решая, в кого плюнуть, а Федор Михайлович делал такое лицо, словно его только что стошнило и сейчас еще раз стошнит – вдогонку. Каждый мечтал о другом, чтобы того переехало автобусом.
Как-то Бобыль «обзирал» (так это называется у газетчиков) очередной номер, где была крупная статья Прошедовского. Дело случилось в актовом зале, при большом стечении народу. Хоть Бобыль и не любил скандалов, но для Прошедовского мог сделать исключение. Бобыль был почти христианин: готов был простить любого, но не Прошедовского.
Федор Михайлович вообще-то не хотел оскорблять Прошедовского, все вышло само собой.
– Обсуждать тут нечего, – сказал Бобыль, брезгливо держа газету со статьей двумя пальцами на отлете. – Миша Прошедовский в своем репертуаре.
Клеветы в свой адрес правдолюбец Прошедовский не вынес. Он поднялся во весь свой невеликий рост и закричал так, что звякнула вода в стакане у главного редактора:
– Перед нами – профессиональный подлец! – и пальцем ткнул в Бобыля. – Подлец, достигший в своей профессии совершенства!
Федор Михайлович подниматься не стал, он и так уже стоял на сцене. Дрожащим от негодования голосом он произнес:
– Если Прошедовский себе позволит еще что-нибудь подобное, я вас всех беру в свидетели: вызову его под Большой каменный мост драться на мясорубках!
Почему именно под Большой каменный мост, не было никому понятно. Возможно, это место как-то соединялось в воспаленном сознании Бобыля с горой Машук, что ли, или другим известным местом для дуэлей. Тем не менее, слово было сказано.
Дошло бы дело до драки, и чем бы эта драка закончилась, никто так и не узнал, потому что в этот момент главный редактор Матвей Никанорович Хрустальный со свойственной ему мудростью выдал фразу, достойную скрижалей:
– Теперь понятно, почему евреи до сих пор не овладели миром – они все время ссорятся. Только непонятно, почему…
Однако оставим Хрустального наедине с непонятыми им евреями. Этот вопрос был тогда не в моей компетенции. И уж тем более он не соответствовал моей скромной должности в отделе литературы и искусства.
Отделом командовала – по-другому не скажешь – Марина Ивановна Рвака, известная в определенных кругах. Возраста она была, что называется, постбальзаковского – и сильно. В упомянутых кругах Рвака прославилась бесконечными интервью с деятелями культуры, которых всех она знала близко и лично.
Первой характеристикой ее была миниатюрность. Ни до, ни после не видел я такой маленькой женщины. Таких людей хорошо разглядывать в микроскоп, но иметь с ними дело довольно затруднительно.
Одевалась Марина Ивановна строго, но с некоторой претензией. Шарфики и банты заметно оживляли ее внешность. Совсем без украшений она была похожа на председателя ликвидационной комиссии. Но с шарфиками выходило еще хуже. Они так плотно обнимали шею, как будто Рвака была удавленницей, а под шарфиками прятала синюю странгуляционную полосу.
Пугал еще и взгляд – желтый, круглый и выпуклый. Ничего не выражалось в этом взгляде. Все чувства видны были только в движении сухоньких губ и внезапных подскоках от избытка энергии. В этом чудилось что-то нечеловеческое, что-то инопланетное. Не всякий решался подойти к Рваке вплотную.
На расстоянии же Марина Ивановна казалась карликовой ракетой, у которой сбита система наведения. Она перемещалась в пространстве хаотическими зигзагами, внезапно втыкалась в человека, задавала дикий вопрос, например, «Что вы тут делаете?» – и тут же уносилась прочь: к отделу писем, к секретариату, к машбюро.
В отделе писем было совсем просто – там давали организованный отлуп самодеятельным корреспондентам из народа.
Зато машбюро – это была выставка ног: длинных, стройных, крепких, всегда полуголых. Девушки сидели неприступные – но лишь до поры до времени. Забеременев, родив и оставшись с ребенком на руках, они делались куда сговорчивее. Но им, увы, уже никто не верил, все ходили мимо.
Мужчины их не понимали. Мечты девушек состояли не в том, чтобы получать алименты, они хотели встретить принца. Но девушки из машбюро не умели увидеть разницы между сказочным принцем и обычным подлецом. Скажу вам честно, это общее свойство девушек, но в особенности же – девушек из машбюро.
Забеременев, девушки теряли надежду на принца – им было лишь бы кого. Желательно доброго, тихого, небьющего. Во время работы они думали о чем-то своем, глядели печально в сторону, часто и безнадежно подкрашивались. Но вдруг, словно ослепленные, бросали косметичку, хватались судорожно за работу, часто делали опечатки, подтирали их потом краской-«корректором», опускали в отчаянии руки.
Выходя из машбюро, они выпрямлялись, глаза их становились тревожными, они словно что-то искали… Было грустно видеть, как гордая когда-то девушка сама засматривает в глаза встречным мужчинам…
Но девушки из машбюро были одно, а Рвака – совсем другое. Она не беременела, не заглядывала мужчинам в глаза, а женщин и вовсе за людей не считала.
При первой встрече, едва представившись, Рвака завела меня в свой кабинет, заваленный с ног до потолка строительным хламом. При ближайшем рассмотрении, однако, становилось ясно, что хлам ничего не строительный, а очень даже нужный.
На подоконнике молчало рыжее старорежимное радио, сохраняемое на случай, может быть, всеобщей атомной тревоги. У окна стоял стол, на нем размещалась сатанинских размеров электрическая пишмашинка – при работе она издавала пулеметные звуки. Вокруг машинки в беспорядке валялись исписанные листы, побитые правкой Марины Ивановны, а также присланная из типографского цеха верстка. Вдоль стен лежали пожелтевшие газеты, журналы, поздравительные открытки, красные рулоны с туалетной бумагой, приглашения на разные культурные мероприятия, самое раннее из которых было датировано, кажется, 1933 годом – может быть, именно тогда Рвака пришла работать в «ГМ». На книжном шкафу располагалась куча внушительного вида булыжников, громко называемая коллекцией минералов. В центре стола у Рваки, как священный фиал, стоял стакан с водой, накрытый зачем-то бумажкой. Это мне показалось загадочным. Почему вода – понятно: если вдруг кто-то упадет в обморок. Почему стакан, а не, к примеру, ведро, тоже ясно – чтобы хозяйка не утонула. Но зачем бумага? Позже я понял: бумажку положили, чтобы в стакан не заходили микробы…
В целом, некоторое представление о кабинете Рваки дает картина «Апофеоз войны» Верещагина, если скрестить ее с «Последним днем Помпеи» Карла Брюллова – да и то самое приблизительное.
Итак, заведя меня в первый раз в свой кабинет, Рвака доброжелательно посмотрела на меня снизу вверх и молвила:
– Ну-ну, посмотрим, на что ты способен…
Довольно быстро выяснилось, что не способен я почти ни на что. Во всяком случае, по ее, рвакиным, представлениям.
В свое оправдание могу сказать только, что я очень старался. Передо мной, как живые, вставали одухотворенные лица дореволюционных журналистов Буренина, Дорошевича, Лейкина – и все в золотых рамах. Между ними, мнилось мне, было место и для моего портрета. Эта мысль поддерживала меня в самые тяжелые моменты.
И, однако, работать под началом Марины Ивановны оказалось невыносимо. Я напрягал свой интеллект неимоверно, от усилия почти теряя сознание – но все было зря. Рвака с нечеловеческой точностью вымарывала в моих статьях все смешное, живое и натуральное.
– Друг мой, – говорила она, – это все совершенно не нужно, читателю это не интересно.
Я возненавидел этого загадочного читателя, которому, видно, нужны были только бесконечные интервью Рваки с ее культурными знакомыми. Я огорчался, досадовал и исходил злобой. Запасы желчи в моем организме оказались совершенно исчерпаны. Единственное, на что я был еще способен – это черной завистью завидовать моему приятелю Егору Болелову, который обозревал кино…
Интересно, что Рвака, тогда уникальная в своем роде, оказалась как бы предтечей современных редакторов. Нынче все редакторы такие же, как она – вымарывают все смешное, талантливое и живое. Но не будем огорчаться, ведь, как говорил первый Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Александр Котенков: «Есть Божий суд, наперсники разврата!» Теперь дело за малым: чтобы Божий суд покарал, наконец, кого следует, и в первую очередь – всех на свете редакторов.
Глава вторая, где Рвака становится привидением, Муромцева идет на конкурс лошадей, а поэты-алкоголики ведут себя некрасиво
Впереди у нас, дорогой читатель, еще очень много событий, так что писать приходится широкими мазками, не отвлекаясь на детали. Но есть, однако, люди, на которых следует остановиться отдельно, потому что пройти мимо них безнаказанно просто невозможно.
К числу таких людей, безусловно, относится и вышеупомянутый кинообозреватель Егор Болелов. Те, кто не застал девяностых годов, конечно, не могут и представить себе подлинный масштаб этого человека. В те годы он был настолько популярен, что его читали даже кинорежиссеры, которые обычно вообще ничего не читают, и, вдобавок, видели всех в гробу.
Главным отличием Болелова от остальных журналистов было то, что он всегда вытворял, что хотел. Он был человек жеста – обычно непристойного. Он матом крыл Рваку на весь коридор, скандалил со всеми, кто оказывался на расстоянии крика, швырялся твердыми предметами и совершал много других ярких художественных жестов.
Художника, говорил Пушкин, надо судить по законам, которые он сам над собой установил. Болелова судить было невозможно – он не признавал над собой никаких законов, особенно же законов ханжеской морали и Уголовного кодекса. Видимо, по этой причине Болелов не стеснялся никого: ни стариков, ни детей, ни беременных женщин – ни, паче того, главных редакторов.
Раз в полгода Матвей Никанорович Хрустальный выступал с отчетным имущественным докладом. Все собирались в актовом зале, он выходил на сцену в дорогом сером костюме, долго и тщательно разворачивал бумажку. Глаза его горели гарпагоновым огнем, пальцы чуть заметно перебирали невидимые дивиденды, голос переходил с дисканта на баритон.
– В прошедшем полугодии мы приобрели теплоходик, колбасный завод и типографию… – говорил Хрустальный по бумажке.
– Мы приобрели! – громко перебивал его Болелов, делая ударение на слове «Мы». – Мы приобрели!
И хохотал утробным басом – как сказали бы древние римляне и аптекари, «де профундис»…
Считалось, что владельцем и учредителем газеты является трудовой коллектив. Однако все знали, что настоящим хозяином был Хрустальный. Все знали, но молчали. Смеялся почему-то один Болелов.
– Ты идиот, – говорили ему друзья и доброжелатели, – тебя уволят!
– Это вы идиоты, – отвечал великолепный Болелов, – это вас всех уволят – и правильно сделают.
Прав, по гамбургскому счету, оказался Болелов. Всех уволили, а те, кто остался, ответили за это бессмертием души… Я это не к тому говорю, что хочу осудить людей, работавших и работающих в «ГМ» по сей день. Просто слишком много компромиссов требовала от журналиста служба в этой газете.
Впрочем, все это случилось позже. А сейчас Болелов хохотал – самым невежливым и непристойным образом.
При первых раскатах хохота Хрустальный прекращал отчитываться и внимательно поверх бороды смотрел в зал. Увидев, что это Болелов, Хрустальный невнятно поминал чью-то мать и продолжал доклад.
Болелову все сходило с рук. В газете он считался юным гением и Христа ради юродивым.
В «ГМ» многие звали себя гениями. Но Болелов принципиально отличался от остальных. Он не только назывался гением, он и был таковым.
– Убью, гады, – добродушно говорил он всем остальным, когда эти остальные своей болтовней мешали ему писать. И все послушно замолкали, потому что знали – убьет и не поморщится.
Болелов состоял в отделе литературы и искусства, но был выделен в особую штатную единицу, и Рваке не подчинялся. Да и не мог он ей подчиниться. Это было все равно как Наполеона подчинить какому-нибудь прапорщику.
Рвака, которую никто и никогда не звал юным гением, ревновала. Тайком от Болелова она пробовала переписывать его статьи – исходя из своего понимания предмета.
Расплата наступала незамедлительно.
Едва появлялся набор, Болелов хватал его и шел по коридору к кабинету завотделом. На ходу он громогласно зачитывал вслух рвакинские перлы, перемежая их матерными криками и обещаниями сделать с Рвакой нечто такое, что уж совершенно не соответствовало ни ее возрасту, ни общественному положению.
Рвака, услышав тяжелый командорский шаг Болелова, старалась незаметно улизнуть из кабинета. Иногда это ей удавалось, но чаще – нет. Болелов открывал дверь ее кабинета пинком и входил внутрь, являя собой совершенно пушкинский образ.
«Выходит Петр. Его глазаСияют. Лик его ужасен…Он весь, как Божия гроза!»Болеловские глаза метали молнию, язык его извергал матерные громы… Все попытки Рваки потушить этот огонь уничтожались на корню. Что могла эта престарелая мышь противопоставить грозному напору бывшего сержанта, прошедшего срочную службу в рядах советской армии?
В сущности, Болелов был гусаром. Ни субтильный вид его, ни происхождение этому не способствовали. Однако человек сумел, как Будда Гаутама, вернуться к своей подлинной природе – и природа эта оказалась природой гусара.
Знакомый поэт-декадент Гриша Кукис, с которым учились на филфаке, в одной из поэм посвятил ему прочувствованные строки:
«И тут вошел Егор Болелов,В нескромных актах поседелый…»И вот поседелый в нескромных актах Болелов с криком врывался к Рваке. Когда через пять минут, полностью разметав пожелтелые кости заведующей, он покидал кабинет, Марина Ивановна восставала из праха и бежала плакаться ко мне. Меня она считала почему-то гуманистом и человеколюбцем.
– Так каждый раз! – причитала она. – Каждый раз! Друг мой, представь, каково мне в моем возрасте выслушивать такие слова?
– А вы не слушайте, – советовал я.
– Как же не слушать, если он говорит? – удивлялась Рвака. – Я привыкла прислушиваться к мнению других людей.
– Ну, тогда пеняйте на себя!
Рвака глядела на меня с изумлением, но сдерживаться я не мог.
Тем более не мог я сочувствовать Рваке. Сочувствие мое было бы фальшивым. Больше скажу: как это ни стыдно, в глубине души я радовался, что хоть кто-то мстит Рваке за мое поруганное самолюбие. Сам я на такое был неспособен – Рвака безнаказанно переписывала меня вдоль и поперек.
Когда я брал номер с очередной своей статьей – небольшой, но все-таки своей – и начинал его читать, у меня делалось сердцебиение. Позор, безумие, стыд и ярость одолевали меня, когда я видел, во что превратилась дорогая мне миниатюра.
После рвакиной правки от меня в материале оставалась только фамилия. Все остальное вызывало ужас. Главным моим желанием в те месяцы было задушить Марину Ивановну, растоптать, выбросить из окна. Но сделать это было нельзя, потому что это было бы уголовным преступлением.
Я пытался, конечно, бороться за свое человеческое достоинство и право автора.
– Марина Ивановна, – говорил я, играя желваками, – зачем же вы все время переписываете? Ведь было же очень неплохо.
Но эти мои попытки натыкались на полное непонимание и даже обиду со стороны редактора…
– Друг мой, – говорила она (этот чертов «друг» доводил меня до умоисступления), – друг мой, неужели ты не понимаешь? Ведь я просто пытаюсь помочь тебе, сделать твои статьи лучше? Ведь это же профнепригодно, неужели ты не видишь?!
Не я один страдал от редакторской тирании. Солоно приходилось и другому корреспонденту – Мусе Муромцевой, пришедшей в газету чуть раньше меня.
Мы страдали вместе и морально поддерживали друг друга.
Когда я, придя в неистовство от очередной рвакиной глупости, начинал топтать газету со своей собственной статьей, она меня останавливала.
– Леха, – говорила она, – не надо! Не того ты топчешь…
– А кого, – спрашивал я, – кого надо топтать, чтобы все это прекратилось?!
– Всех, – говорила Муся, – всех до единого надо растоптать – и все равно толку не будет.
Муся была принципиальной девушкой. Как-то она освещала конкурс красоты «Мисс пресса». Добром это кончиться не могло. Не было в мире человека, хуже подходящего для освещения конкурсов красоты, чем Муся Муромцева. Она удивительным образом сочетала в себе ум, простодушие и честность. Такие люди обычно правду ставят выше дипломатии, и жизнь их ничему не учит.
На пресс-конференции, посвященной закрытию конкурса, Муся встала и, по чудовищному своему обыкновению, сказала, что думала.
– Во всех этих конкурсах красоты, – сказала она, – есть что-то лошадиное…
Разразился ужасный скандал. Зрители все загудели, обиженная победительница зашлась в крике.
– Мой папа – народный депутат! – кричала она. – Я сдала кандидатский минимум! И после всего этого я – лошадь?
Словом, все участницы, а потом и организаторы очень обиделись на Мусю. Больше ее на конкурсы не приглашали.
Муся очень переживала случившееся.
– Но я же не хотела их обидеть, – объясняла она мне. – Я из лучших соображений! Я же не имела в виду, что они лошади…
– Не расстраивайся, – утешил ее я. – И конкурс у них лошадиный, и участницы – кобылы, а уж организаторы – те и вовсе ослы, каких свет не видывал…
Да, так Муся страдала от рвакиного произвола не меньше, чем я. Статьи наши после вмешательства Марины Ивановны казались бредом тяжелого и злонамеренного шизофреника.
Стиль Рваки, пожалуй, еще одобрили бы славянофилы – братья Аксаковы, Киреевский и Хомяков. Однако даже Державин почел бы его архаичным.
Но Рваке плевать было на Державина, а заодно и на братьев Аксаковых – всех до единого. Сообразуясь с фамилией, она рвала, терзала и уничтожала все, до чего могла дотянуться ее костлявая лапка. Конечно, все делалось из лучших соображений. Но от этого становилось еще страшнее.
Казалось, так будет вечно. В России ведь только хорошее проходит быстро, а плохое не имеет конца.
Но, однако, случилось чудо. Чудо это было незваным, непрошеным, никто на него не надеялся. И тем удивительнее было, что оно случилось.
Рваку сняли с завотделом, или, говоря языком жестов, дали ей пинка под зад. Она сделалась обыкновенным обозревателем, без всякой власти над простыми смертными. Насильственные чары ее кончились, желтые глаза больше никого не пугали.
Это событие весь отдел праздновал шумнее, чем итальянцы – приход Баббо Натале.
На радостях газетный народ вышел в коридор и с гиканьем стал бросать в воздух ненужные предметы: телефоны, стулья и готовые к верстке статьи. Все обнимались и целовались. Паче всего обнимали и целовали литературного обозревателя Ольгу Морозову, которую теперь сделали завотделом. Сама Морозова немного стеснялась радоваться: в конце коридора немым упреком мерцала траурная фигура Рваки. Но остальные ликовали неприкрыто.