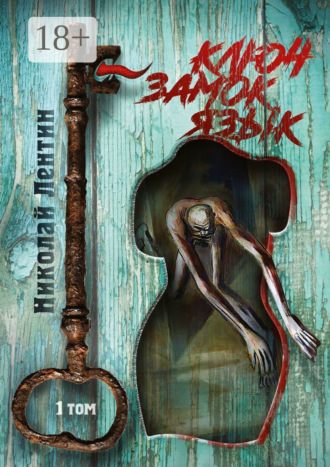
Полная версия
Ключ. Замок. Язык. Том 1
Но Раскольников был движим не «рахметовщиной», а, так сказать, силой отталкивания. Всю жизнь она в нём бродила и совсем не сводилось к возразительному модусу поведения, хотя и эта довольно склочная пружина тоже в нём работала. Нет, отталкивание было врождённым его качеством и составляло именно силу его. И вообще сила отталкивания поважнее, может, будет силы притяжения, хотя бы потому, что бытие образовано отталкиванием Творцом от себя своего творенья. В общем, Раскольникова тянуло пойти поперёк, переломить биографию и заодно залепить качелями в лоб Фортуне. Он полагал себя выносливым, а недостающую мощь надеялся закалить в мужицкой работе. Его взяли в артель «на погляд», но когда он сам поглядел на эти мешки и кули… Были, конечно, здоровяки, в одиночку тягавшие пяти-восьмипудовую кладь, и Раскольников смог бы, если б силу отталкивания, которой было хоть отбавляй, удалось перевести в силу тягловую. А так он носил в паре с каким-то приблудным бродягой – и мешке на пятом оступился на трапе и полетел в воду. Повезло – не расшибся о причал. За ним тут же нырнул и помог выбраться из студёной воды какой-то бородач. Трясущийся Раскольников, отжимая одежду, простучал зубами, что за утопленный мешок ему отдать ничем. Полно, Родя, не бери в голову, усмехнулся бородач, и Раскольников с изумлением признал в нём Разумихина, недолгого своего приятеля по университету. Разумихин сильно продвинулся в деле опрощения, слившись с народом до неотличимости, и даже успел в новой среде приподняться до значительного положения: был порученцем купца, которому принадлежали барки с грузом. Он увез Раскольникова к себе на съёмную квартиру, пропитал водкой изнутри и снаружи, и всю ночь потом гоняли они чаи с малиной до седьмого пота под неожиданно задушевные разговоры.
Коротких отношений между ними никогда не было, познакомились во время злосчастной студенческой истории, после которой университет и прикрыли. Разумихина как одного из верховодов вместе с группой бузотёров подержали с месяц в Петропавловской крепости, и Раскольников в составе студенческой депутации навещал его, – не столько из сочувствия, сколько из историко-архитектурного интереса к месту заключения. Разумихин был старше его лет на пять, хотя шёл лишь курсом выше по тому же юридическому, куда его занесло вполне случайно, в процессе выделки захолустного поповича в прогрессивного деятеля современности. После семинарии он много где мотался, много чего попробовал – от учительства до нерпичьего промысла на Севере, но и заматерев, исполнен был чисто бурсацкой запальчивости духа, – это и было в нём самым любопытным. Сделавшись заядлым атеистом и полностью вдарившись в мистификации ratio, он остался сугубо религиозным, даже церковным типом, верным провиденциальной композиции смыслов. В храме материализма его влекло только под купол, на самый верхний этаж, и Разумихин всё время рыскал в поисках универсалии – идеи или силы, которую подобает там поселить. Исключение из университета воспринял с удовлетворением, к тому моменту окончательно разочаровшись в правоведении, тем более в правосудии, как до того в православии, – через них рай на земле не построить, а на меньшее Разумихин, за отрицанием Царства Божия, был не согласен.
Тогда же пресеклась их общение: Разумихин был бунтарь, а Раскольников хлюзда и презренный «матрикулист», ничего общего, – и на несколько лет Разумихин пропал из виду. Потом была случайная встреча на Мытнинской площади в толпе пялившихся под мелким дождичком на гражданскую казнь Чернышевского. Раскольников оглянулся на гудящий басок, объяснявший разочарованным чуйкам и поддевкам, что гражданская казнь – это не когда честным гражданам в развитие свобод разрешено вместо палача собственноручно рубить голову преступнику, а всего лишь выставление на позорище, и ни плевать, ни заушать при сём не дозволено; это и был Разумихин. Они сдержанно поприветствовали друг друга и после церемонии зашли обсушиться в чайную. Тут Разумихин сходу ошеломил Раскольникова заявлением, что наконец он «Бога расколдовал». Бог – это электричество, да, Родя! Древние-то правы были, с зевесовыми-то перунами и Ильёй Пророком на колеснице, штанов не знали, а суть вещей прозревали. Но теперь наука привела к буквальности: от того, что молния не гнев божий, а электричество, божественности меньше не стало, даже прибыло: всюду энергии божьи, хоть кошку гладь, хоть вольтов столб делай, – всё сводится к движению токов. Электричество – истинный дух божий! Бог по сути – это космическая динамо-машина. Земля – это лейденская банка, от полюса к полюсу, от катода к аноду бродит энергия. Мысль – тоже электрический разряд! Это второе пришествие, Родька, и заметь: в самой ослепительной форме. Скоро всё будет электрическое – фонари, печки, паровозы, станки… Зря смеёшься, Раскольников, ты тухлый правовед, латинист несчастный, что ты можешь понимать в электромагнетизме. Ты динамо-машину видел? Закон Ома помнишь? А что такое клетка Фарадея, а?
Раскольников выразил свой скепсис через живейшее одобрение и поинтересовался, в чём же теперь будет заключаться миссия нового апостола. Разумихин приосанился: разумеется, он обязан поступить в Технологический институт, на прикладное богословие, – так по сути должна именоваться электротехника. Окончит и пойдёт опутывать проводами Россию, зальёт народ светом и освободит от сохи и топора.
На том и расстались. И вот спустя полгода сидят они при пыхающей свечке, обмотанные тряпками, как отступающие французы, и захмелевший Разумихин требует себе медаль «За спасение утопавших», потому что он не только Раскольникова выудил, у него на Богородицких порогах две барки расколошматило, вот где понырять пришлось за людями и кулями. А как же Технологический, напомнил Раскольников поповичу, почему он служит какому-то купцу, а не новейшему электрическому богу. Разумихин громыхнул грозовым разрядом: не допустили, собаки, на него ведь теперь возложен стигмат неблагонадежности, – и чёрт с ними, omnia ad meliorum4, чему они научить могут, короеды. Он решил: поедет прямиком в Германию к Сименсу, слыхал? Компания такая, они у нас телеграфы ставят. Там наука, там техника, лучшие инженеры со всей Европы, – а у него теперь деньги будут, весной двинет, вот только язык бы подтянуть, ты же знаешь, у меня с немецким нихт гут… Разумихин после семинарии хорошо знал только древние языки, греческий так много лучше Раскольникова.
Послушай, Разумихин, сказал Раскольников. Разумихин послушал и с воодушевлением принял предложение устроиться по протекции в одну полунемецкую семью: там легко можно поднатаскаться в языке, и за уроки они недурно кладут. Через два дня Разумихин был представлен Фунтусовым – солидный, басистый, с бородой, почти юрист, почти технолог… Борода всё решила. Фунтусову-мать поначалу покоробил такой признак вольнодумства, но, узнав о его сословном происхождении – семинария с отличием и вообще почти иерей, – она возликовала: Mein Gott! Закон Божий – вот что нужно моим мальчикам!
Благодарный Разумихин предлагал съехаться и столоваться вместе, может быть, так и получилось бы, но однажды он повёл Раскольникова – «хватит киснуть анахоретом, я тебя сейчас гальванизирую!» – к приятелям в коммуну на Васильевском острове. Там Раскольников познакомился с Генриеттой, у той тогда был «сапожный период», то есть она всерьёз училась тачать сапоги, – в первый же день сняла у него мерку c ноги и пообещала сшить опойковые сапожки. Тут же у них нашлись более высокие общие интересы, и на ноге не остановились. Так в жизни Раскольникова стало вдвое больше женщин, а коммуна увеличилась на одного члена.
Численность коммунаров было подвижна, состав пёстр, жизнь бурлила, как рыбный садок: хвостами бьют, плавники топорщатся, – а вот кто выше сиганёт! а у кого чешуя ярче! – покуда всех не вычерпают по одному на ушицу. Таких коммун – «фаланстьеров», так выражались фурьернутые, или «фаллостьеров», как уточняли циники, – много появлялась в Питере, и существовали они от месяца до трёх; но коммуна на Васильевском держалась уже полгода и была чуть ли не самой большой: двенадцатикомнатная квартира в старом доме близ Тучковой набережной, совмещавшая ночлежку, мастерскую и танцкласс.
Обычно Раскольников, избегая всякого примыкания, держался в стороне от таких крикливых и неряшливых сборищ. Но он увлекся Генриеттой, – а та, как одна из основательниц, занимала целую комнату, не особо, правда, уютную: пахло кожей и клеем, разбросаны были колодки, распорки и молотки. И ещё пованивало чем-то поганеньким, Раскольников долго принюхивался, прежде чем установил, что так благоухает ёжик, зимующий в коробке под кроватью. Женщина, жильё… третьим удерживающим элементом шло любопытство, даже исследовательский интерес: забавно и поучительно было погрузиться в эту шумную, весёлую, тоскливую, дурную, богемную жизнь, при этом оставаясь всё же в боковой ложе с лорнетом наблюдателя. В обшарпанных декорациях мелькали расстриги всех сословий и вер, типажи почти катакомбные, психологически-воспалённые, исходившие шальной энергией затянувшегося пубертата. Под конспиративное шушуканье являлась «надежда России» – угрюмые нечесаные молодые люди, непонятно чем занимавшиеся, но уже умевшие чрезвычайным удельным весом подавлять окружающих. Шелестело «передать посылочку», «переночевать ночку», а то и «хлебца поесть». Заходили переодетые офицеры из Кронштадта, иногда бывали литераторы средней руки с записными книжками наготове, – и постоянно заваливались пошуметь очумевшие от алкоголизма прогрессивные публицисты, по совместительству и чахоточные: они вещали с подъятым перстом, как всё вокруг надо разрушить, чтобы им наконец-то понравилось на Руси, – и на полуслове падали замертво под стол. Ночью у них начиналась горячка, ненависть к царизму заставляла их бросаться на стены и ловить жандармов в зеркалах. Приходилось бежать за доктором, потом за пролёткой, чтобы вести несчастного в больницу, потом собирали деньги на лечение, потом на похороны, потом – на посмертный сборник творений.
Вообще жили вскладчину, поскольку работать никто не умел и не желал, готовить тоже, питались трижды в день чаем с хлебом, капустный суп был праздником, шмат сала с родины – именинами. Что готовить! – убраться был непосильный труд, по коридору вечно катались бутылки с окурками, под ногами будто валежник хрустел. Прибился однажды химик-татарин из Казанского университета, поразился грязи, к общему восхищению подмёл коридор, прибил вешалку, подтянул лампу, затем понёс во двор чистить самовар, – больше их не видели, ни татарина, ни самовара.
Но весь этот кавардак и неустроенность были мелкими фоновыми деталями для праздника, которым молодость является сама по себе. То и дело устраивались танцы, кто-нибудь шёл во все тяжкие и разорялся на водку с пивом, заводились песни, особенно ладные, когда заваливалось украинское землячество со своим салом к чужой горилке и хоровым козацким репертуаром. Хохлы от собственного спивания хмелели быстрей, чем от водки, первым делом начинали горько рыдать по хуторской живности и тут же без перехода пускались с гиканьем ломать пол каблуками.
Такая фельетонность обихода отнюдь не мешала коммунарам почитать себя лицами историческими, более того, едва ли не завершителями истории, будто длинный ряд её недоразумений прямо перед ними заканчивался знаком равенства, – за которым в их лице и в их деяниях следовал окончательный итог. Что-то историческое в этом бурлении присутствовало, – Раскольникову представлялась Клио, восседающая в раскинутых юбках на стульчаке, то и дело встряхивающая ими, дабы выпустить соответствующий «дух эпохи». Сам он ничего определённого не мог сказать ни о будущем человечества, ни о туманных перспективах национального развития, да что там, его собственное будущее словно бы себя не предполагало. Любые прогнозы, как учит та же Клио, особенно основанные на бесспорных фактах и стройной логике, двигают историю в противоположном направлении. Куда уж бесспорней 2x2=4, но если эта бесспорность подставляется в изначально неверную формулу отечественной истории, причём невозможно определить, в какой момент в неё – по злоумышлению ли или по глупости – были введены ложные данные: не то вкривь и вкось пошло с раскола, не то с разделения церквей, а может, вообще с принятием христианства, а то и с первородного греха… Короче говоря, на двух жёрдочках знака равенства всегда раскачивался жуликоватый бесёнок и подзуживал завершителей истории к жертвенным благоглупостям.
Не только по идейным, – больше по вкусовым, даже художественным причинам у Раскольникова с коммунарами симфонии не выходило. Ему претили их пошлейшие атеистические шуточки, вроде «зачем нам ваш полуеврей, к тому же в дырках от гвоздей». Когда же они, сдвинув кружки, тревожно глядя друг на друга увлажнёнными глазами, выводили задушевно: – «За здоровье того, кто „Что делать“ писал, за героев его, за его идеал!», – его разбирал безыдейный смех. Он поддерживал ровные отношения со всеми, имел репутацию почти энциклопедиста, многие ему завидовали как избраннику Генриетты, – но в главном жанре общинной жизни – в политических диспутах, – а они вспыхивали и переходили один в другой, как по бикфордову шнуру, – принимать участия не стремился, усматривая в них склонность без способностей, обезьянничанье без игривости, смесь неумелого интеллектуального мошенничества с апломбом даже не русским, а по-еврейски самоупоённым, завернутым, как селёдка, в промасленную обёртку надрывного страдания за долю русского народа. Спорить было бессмысленно, прежде чем решать какой-либо насущный вопрос, требовалось занять партийную позицию, после чего сам вопрос обращался в повод для пропаганды. Стремление к пониманию полностью вытеснялось стремлением к правоте. Когда какой-нибудь истеричный радикал с энурезом верхних дыхательных путей надсаживался с особенно назойливой демагогией в духе «к топору зовите Русь!», Раскольников немедленно соглашался, – но согласитесь и вы, что дело освобождения угнетённых начинать надо с себя: раз Фохт-Молешотт доказали, что мозг вынужден вырабатывать мысль, как печень желчь, то их и надо в первую очередь – то есть мозг и печень в качестве внутреннего пролетариата – спасать от эксплуатации. Коммунары раздражались: дешёвое остроумие, Раскольников, история не делается в белых перчатках! – Для вас сто тысяч ради народного счастья вырезать – тоже дёшево, только кто резать будет? вы? а курицу пробовали? А ведь тут на каждого робеспьерика по сотне душ придётся. – Доходило до частичного бойкота. Сам он к распрям не стремился, это фамилия вынуждала: он давно заметил, что одним своим присутствием разрушающе действует на любую системность.
Вся эта гастроль на месте, атмосфера отмененного богомолья, подающая надежды суета с местечковый картавостью, польской шепелявостью, оканьем, цоканьем и прочими особенностями русского говорка, вечное «самоварчик поставить», прозябшие стриженые девушки с красными носиками и грязными подолами, «Прудон давно доказал», «Бакунин давно опроверг», дрязги, кому смывать в нужнике, «выдь на Волгу, чей стон раздаётся», тараканы, щелчками сбиваемые со столешницы, где на газете наломан хлеб, стоит миска с огурцами, и от свечки в обросшей стеарином бутылке мечется тень лохматой головы на тонкой шейке над листками с переписанной статьей – «из „Колокола“! прямо из Лондона!» – весь этот безалаберный василеостровский балаганчик был для Раскольникова предметом изучения нравов и тенденций, хотя, конечно, и отлагался в нём человеческим опытом. Последнее касалось прежде всего отношений с Генриеттой.
Генриетта… Не исключено, что это было её настоящее имя, мог, вероятно, еврейский папаша назвать так дочь на французский манер; но скорее она была какая-нибудь Ривка или Юдифь, – последнее имя очень бы ей подходило: шапка чёрных волос, профиль зигзагом, египетские глаза, в руке – голова Олоферна.
С родней она давно порвала и ни копейки от неё не брала, хотя могла бы ни в чём не нуждаться: богачи Гляншпигели гремели по всему северо-западному краю и, выхватив подряд на Рижско-Динабургскую железную дорогу, купались в немереных прибылях. Чихали они на то, что красавица их ютится в сырости, кутаясь в дырявую шаль, что в груди у неё хрипы, суставы на руках распухли, и курит она самые дешёвые папиросы, от которых слезятся глаза. Для еврейского кагала она была выродком и одержимой. Иногда и Раскольникову так казалось.
Сама же Генриетта почитала себя счастливым человеком в самом правильном месте и за самым нужным делом. Пробуждение народа – освобождение человечества – всеобщее благоденствие! – эта упоительная логика мечты одолевала её почти эротически и воплощалась в ней программным, нарицательным образом: она кромсала и кроила себя безжалостно, будто кожу для сапога. Раскольников находил в ней нечто общее с Разумихиным: в блудном отпрыске «колокольного рода» сохранилась храмовая архитектура души, а в Генриетте, отринувшей жидовство, коренная ветхозаветная идея избранничества обернулась верой в свою исключительную правоту и заговорённость. Поэтому она ничем не гнушалась и ничего не боялась. Побывши и гувернанткой, и подёнщицей – и много кем, вплоть до шпульницы на канатной фабрике, – она вроде бы остановилась на сапожном ремесле и принялась учиться ему под руководством нерегулярно приходящего, ибо регулярно пьющего сапожника-кимряка. Из Раскольникова она тоже пыталась сделать холодного сапожника, чему тот не особо противился: к тому времени в нём вызрела идея, что ум и умение связаны корневым образом, то есть само по себе обилие навыков не создаёт ума, но питает его метафорами освоения, – поэтому он худо-бедно научился сучить дратву, орудовать шилом и приколачивать набойки, надев сапог на «ведьму», – так на профессиональном жаргоне именовалась железная лапа.
Отвага Генриетты иногда выходила ей боком: например, в доме она предпочитала щеголять в брюках, но и на улицу пробовала выходить жорж-сандом, – пока бабы не побили. Впрочем, случилось это в весёлые апраксинские дни, когда и Раскольникову едва не перепало.
Другой её причудой была подцепленное новомодное английское веяние – вегетарианство. Отказалась от мяса и почти всех видов яиц и гордилась: «Я никого не ем». Меха носить тоже преступно, посреди зимы скинула шубу, простудилась, и Раскольников лечил её, отпаивая молоком и натирая барсучьим жиром (барсука решено было не жалеть).
Экстравагантная её особа пользовалась большим мужским вниманием. Поговаривали, что сам Слепцов её отметил, даже дважды, но Генриетта скромно об этом умалчивала. Она не считала нужным отвергать спутников по общему благородному маршруту, понимая половые отношения как продолжение дружеского разговора в горизонтальной позе. Но, разумеется, о доступности не было и речи, выбирала всегда она. Не до всех это доходило, Раскольникову пришлось объясняться с неким Омаром, студентом земледельческого института, из ногайцев, кажется: Генриетта уступала ему комнату для намаза, из чего тот сделал очень неправильные выводы. Но этот Омар вообще плохо соображал, и что можно взять с человека, который мажет сапоги курдючным салом и считает, что «продавец» – это тот, кто продаёт овец. Поэтому Раскольников терпел, когда сын Востока с восхищением хлопал его по плечу, приговаривая «джигит!», и советовался, как ему тоже покорить прекрасную жидовку.
Другим безнадёжным воздыхателем был соплеменник Генриетты (и уже потому не имевший шансов) Исаак по кличке Таки-Ньютон. Прозван был так потому, что, представляясь Исааком, всегда прибавлял – «как Ньютон». Он был сыном известного питерского финансиста, в коммуне не жил, но проводил всё свободное время. На Генриетту смотрел взором агнца на закланье, знал, что не пара ей, что она никаких подарков от него не примет, но зато он может её развлечь. Таки-Ньютон уморительно показывал в лицах нравы еврейского местечка. Чуть не всякий день, под каждого нового гостя его просили исполнить какую-нибудь сценку, особенно часто бисировалась сцена в хедере, когда учитель дознается у тупого школьника, можно ли есть яйцо, снесённое в субботу. Зрители хохотали до колик, у Таки-Ньютона был несомненный актёрский талант, но вместо того чтобы подвизаться на театральных подмостках, он устремился, – возможно, в угоду Генриетте, – на арену политической борьбы: организовал кружок еврейских приказчиков, помогал излишне развитым дочкам зажиточных евреев спрятаться от отцовского гнева в коммуне, где с ними быстро случалось то, чего отцы пуще всего боялись. Таки-Ньютон был неглуп, голосом крови был влеком к не к революционным, а к экономическим теориям прогресса, был начитан в соответствующей европейской литературе. Поймите, Родион, всё решает экономический интерес, как распределяется прибавочный продукт. В ответ на это Раскольников выдвигал собственную экономическую теорию, что да, распределение важно, только в основе прибавочного лежит отнимочный продукт, отнимаемый людьми поначалу у природы, а затем друг у друга. Генриетта разговаривала с Ицхаком только по-русски, но изредка, когда он слишком допекал своим вниманием, переходила на беспощадный идиш. В шумном обвале которого Раскольников только и различал, что «шлемазл» и «азохен вей».
Почему Генриетта его выбрала – Иегова знает. Да, он был недурён собой, с хорошими манерами сравнительно со шмыгающими разночинцами, – но что-то в ней самой ёкнуло под ливером, если в первую же ночь нашептала ему, что он – тот мужчина, которого она ждала, и с ним она наконец испытает «высшее блаженство». И Раскольников старался, предаваясь блуду в форме сравнительного анализа доступных ему женских экземпляров.
Если Варвара быстро млела, спаривалась на лету, обильно потела по всей мясистой обшивке, то Генриетта имела ноги всегда холодные, тело жёстковатое, с плотной и неотзывчивой кожей, оргазма не достигала, но была о нём наслышана и почитала себя обязанной работать в этом направлении. Выпустив Раскольникова из вавилонского плена своего мускулистого влагалища, она быстрыми пальцами шпульницы начинала воспитывать клитор, насупившийся в смуглой лобковой кудели. Опустошённый Раскольников – triste post coitem5 – не ведал, как ей помочь, да толком и не понимал, в чём именно. Он смотрел на узкое её тело, серое в серых сумерках, похожее на лодочку с вёслами, на маленькие горбики с мрачными сосками на решётчатой грудной клетке, на длинные ступни, на которые и впрямь надо было шить обувь на заказ, – и размышлял, что вряд ли царь Соломон обмирал по такой вот Суламифи, и не такую Рахиль выкупал Иаков ценой полужизни; а вот Юдифь, Далила, особенно Саломея, танцующая с головой на блюде, – да, на этих жриц кровавого эроса она здорово смахивает.
Собственно, Генриетту саму бессознательно влекло в эту кровавую, изуверскую сторону. Вдруг она охладела к сапожному ремеслу и занялась медициной, перешла, так сказать, с сапожной кожи на человечью. В её жизни столько было неожиданных поступков, что они уже выстраивались в строгую периодичность отклонений, – но теперь она была убеждена идеей всемирно-исторического масштаба. Грядут классовые бои, она предчувствует трупы на баррикадах, видит кровавые поля сражений за светлое будущее. Её место там, среди страждущих, она станет медиком, начнёт с акушерства, потом сделается Флоренс Найтингейл, её призвание спасать раненых и утешать умирающих. Вот она с красным крестом на косынке, с подсумком через плечо под грохот канонады пробирается между двух станов среди поверженных… Театр военных действий рисовался ей как анатомический театр: кругом голые искалеченные мужчины без рук, без ног, она ползёт по кровавой траве и одним бинтует раны, другим смежает очи… Слёзы закипали в ближневосточных глазницах, и она засыпала в умиленьи, словно добредя да пресловутого экстаза.
Раскольников и сам заскучал: физиологические пикантности подруги изучены вдоль и поперёк, революционного шаманизма нахлебался на две жизни вперёд… И коммуна была уже не та, упившись пойлом перекисших надежд: приближалось похмелье, мечтающее не о мятежах, а о студне. Пирушек и танцев стало даже больше, но всё это были манёвры самообмана. Поначалу возводя свою праведную исступлённость чуть ли не к общинам первохристиан, коммуна скатилась к местечковому гвалту по любому поводу и угрюмому сектантскому самоопылению. Наивное душеспасительное шулерство с наделением исторического процесса солидарным эгоизмом вдруг засбоило: привычка выдавать желаемое за должное, а должное за неизбежное упёрлась в шершавую и занозистую стену действительности. Разочарование быстро прорастало цинизмом; вместо «За здоровье того, кто „Что делать“ писал» сочинялись стишки вроде: «Из душной неволи стремился я прочь, к заветной звезде через тернии шествуя. Но не было звёзд: полицейская ночь мрачна, как промежность жены Чернышевского», причём утверждалось, что художественный образ опирается на надёжные свидетельские показания одного офицера.
Вообще революция, отодвинувшись в непредусмотренное будущее, поставила под сомнение возможность религиозного проекта в безбожной форме. (Тогда как безбожный проект в религиозной оболочке цвёл и пах повсеместно и недостатка прихожан не испытывал.) Самым неистовым Савонаролам предложено было погадать на трилистнике: тюрьма, чахотка, алкоголизм. Для большинства же р-радикальной молодёжи отложенная революция оказалась даже выгодней сбывшейся: при переходе от слов к делу живо выявилась бы пустопорожесть галдящих, как чайки на помойке, коммунаров, тогда как, «раздавленная сапогом самодержавия», она делалась безупречно-пошлым алиби для трагедийных никчёмностей. Как до того передовые устремления служили алиби недоучкам.



