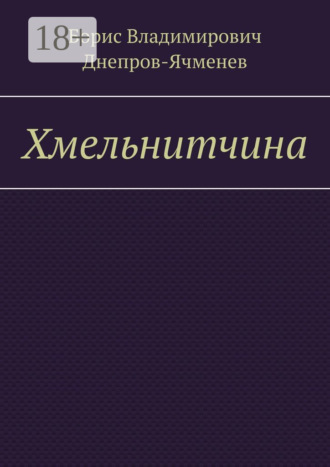
Полная версия
Хмельнитчина
Хмельницкий, прознав о бегстве кварцяного войска, решил перехватить поляков на марше. Стремительным рейдом козакам и татарам удалось опередить обременённых обозом противников, и устроить засаду среди лесистых холмов Правобережья.
На рассвете 26 Мая, когда польский лагерь, окруженный повозками в восемь рядов, двигался Богуславским путем, он наткнулся на завалы из деревьев и выкопанные рвы. Козацко-татарское войско атаковало лагерь и прорвало его оборону в трех местах. Четырехчасовая жестокая сеча (точнее резня) в Резаном Яру завершилась поражением поляков. Подавляющее большинство солдат противника погибло. В плен попали 80 больших вельмож, вместе с гетманами Потоцким и Калиновским, 127 офицеров, 8520 жолнеров. Козаки захватили обоз, 41 пушку, много огнестрельного и холодного оружия, военные припасы. Крымскотатарская конница преследовала беглецов свыше 30 километров. Из всего войска от плена и гибели спаслось только 1,5 тысячи человек.
Интересно! По сообщению украинского летописца М. Гунашевского, после завершения битвы состоялась встреча Богдана Хмельницкого с Николаем Потоцким. Вероятно, чтобы как досадить победителю, коронный гетман с нескрываемым презрением и злой иронии спросил: «Хлоп… чем же ты рыцарству орд татарских (которым и победу приписывали) заплатишь?» На что получил ответ: «Тобой… и другими с тобой». Действительно оба польских гетмана и почти все пленные были отданы Тугай-Бею как военная добыча.
Ликующий татарский мирза писал в донесении в Крым: «…войско польское, ведомое шайтаном, не выдержав сильнейшего натиска легконогих татар-борцов за веру, было разбито и уничтожено, и свою решимость победить они сменили на решимость бежать. Неразумные гяуры отступили от фронта исламских аскеров и бросились бежать. Все известные военачальники и гетманы попали в плен как лисы, а все их воинство было предано саблям.» [Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга походов. Симферополь. Крымучпедгиз. 1998].
Эхо громких побед повстанцев над коронным войском разнеслось по всей Речи Посполитой. Реакция великопольского общества была негативной. Все обрушились на короля и его магистратов, критикуя их за пассивность и уступчивость. Среди окраиной шляхты появилось множество инициативников, которые, выступая под флагом борьбы с Хмельнитчиной, создавали отряды самообороны и игнорировали официальные власти. Вину за нарушение общественного порядка, опять же, возлагали на верхи. Вал растущих претензий уничтожал государственность.
Напротив, в стане Хмельницкого царил оптимизм и революционный популизм. Единство всех восставших поддерживала ненависть к католикам-полякам и ко всем их союзникам (евреям, прежде всего), а проблемы созидания будущей жизни тонули в сладкой патоке лозунгов борьбы за свободу. Сам Богдан, обращаясь к народу, называл всех козаками и соблазнял «вольной жизнью» без панов.
Впрочем, покидая майдан, гетман становился другим человеком. Он понимал, что столь ошеломляющий успех не может быть долгим, поэтому уже после Жёлтых Вод он написал королю Владиславу почтительное послание, в котором объяснял свои действия все теми же причинами и обстоятельствами, т. е. нетерпимыми притеснениями от польских панов и чиновников, смиренно испрашивал у короля прощения, обещал впредь верно служить ему и умолял возвратить войску Запорожскому его старые права и привилеи. Отсюда можно заключить, что он еще не думал порывать связь Малой Руси с Речью Посполитой. Но это послание уже не застало короля в живых. Неукротимая сеймовая оппозиция, неудачи, и огорчения последних лет очень вредно отозвались на здоровье Владислава, еще не достигшего старости. Особенно угнетающим образом подействовала на него потеря семилетнего нежно любимого сына Сигизмунда, в котором он видел своего преемника. Начало козацкого мятежа, поднятого Хмельницким, немало встревожило короля. Из Вильны он полубольной поехал со своим двором в Варшаву; но дорогой усилившаяся болезнь задержала его в местечке Меречи, где он и скончался (20 мая 1648) на руках женщины, которую любил всю жизнь, но не мог повести её под венец, поскольку она была простолюдинкой.
ЭТА ИСТОРИЯ К СЮЖЕТУ НЕ ОТНОСИТСЯ, НО НЕ МОГУ ЕЁ НЕ РАССКАЗАТЬ!
У отца Владислава, короля Сигизмунда III, был скверный характер. Он часто бесцеремонно вмешивался в дела своего сына, поэтому принц при первой же возможности покидал полную интриг Варшаву и путешествовал по окраинам Великой Польши. Особенно ему нравился Львов, где меланхоличный королевич обрёл настоящую любовь. Дамой его сердца стала дочь местного негоцианта Лешковского – Агнешка. Купеческая семья с покорностью принимала ухаживания со стороны наследника престола, но все вокруг понимали, что у данного мезальянса нет будущего – ведь супругой сына монарха может быть только, та чью родословную ясновельможное панство сочтёт достойной Вавеля.
Слухи о неподобающем любовном увлечении сына не особо встревожили Сигизмунда, который счёл данную связь пустяком и попросту отмахнулся от придворных шептунов. Шли годы, но всё оставалось по-прежнему: принц не женился, предпочитая чопорным аристократкам общество весёлой провинциалки. Однако смерть отца и победа на выборах среди соискателей польской короны, вынудили Владислава изменить личные планы. Он торжественно пообещал шляхте заключить выгодный брак с одной из принцесс правящих европейских династий. Это условие было обязательным, но после коронации Владислав IV словно о нём забыл: он перевёз Агнешку из Львова в Варшаву, поселил во дворце, шокируя двор скандальной связью с простолюдинкой. Ему с ней было так хорошо, что мысли о женитьбе и рождении наследника оставляли его равнодушным. Королевское окружение вполне серьезно считало, что «купчиха» его приворожила, даже сам архиепископ пытался святой водой разрушить любовные чары, но тщетно.
Всё же, магнаты заставили короля жениться на австрийской принцессе Сецилии Ренате. После свадьбы Агнешка продолжала жить в королевском дворце, и у гордой австриячки естественно возник вопрос: кто эта веселая девушка, с которой муж проводит, так много времени? Во избежание скандала, грозившего осложнениями в отношениях между Варшавой и Веной, Лешковску, без лишних разговоров, выдали замуж за шляхтича Яна Выпинского (Jana Wypyskiego), и отправили с глаз долой в Литву. Утешительным призом для супругов стало богатое поместье в окрестностях Тракайского замка. Вот только, вынужденная разлука не остудила любовный пыл Владислава. Каждый год он отправлялся на охоту в литовские леса, чтобы провести время с любимой Агнешкой.
Весной 1648 года король опять гостил у Выпинских. Ужасные известия из восточных воеводств вогнали монарха в депрессию. Расстроенные нервы обострили старые хвори в его теле, от которых он уже не смог оправиться.
P.S. Наверное, Владислав умер легко, не заметив подкравшуюся старуху Смерть, поскольку до последнего вздоха он сжимал руку той, которую любил.
Смерть короля окончательно спутала карты Богдана. Владислав IV был единственным польским политиком, с которым козаки могли разговаривать. Король умел сглаживать конфликты как внутри государства, так и во внешней политике. Ему принадлежала инициатива отказаться от титула великого князя московского в обмен за выкуп. Мир с Москвой подарил Польше стабильность на Восточных границах и обогатил королевскую казну. Козацкие восстания до Хмельнитчины с одной стороны безжалостно подавлялись, но Владислав вместе с кнутом предлагал и пряник – привилегии для старшины и увеличение списка реестровых казаков. Его окружение было менее гибким.
Хмельницкий прекрасно осознавал, что шляхта рано или поздно объединится и предпримет контрнаступление. Весь июнь он пытается договориться с магнатами о начале переговоров по урегулированию кризиса. Письма были отправлены князю Доменику Заславскому и князю Иеремии Вишневецкому. Первый контролировал правобережье Днепра, а второй слыл некоронованным королём Левобережья.
Оба олигарха отвергли возможность диалога с бунтовщиками. Вишневецкий даже казнил Богдановых послов. Стало ясно, что прежней Речи Посполитой уже не будет. Победа любой из сторон закончится террором против проигравших, не оставляющим надежды на компромисс.
Интересно! Из всех польских магнатов козакам наиболее близок был Иеремия Вишневецкий. По происхождению русский князь из династии Гедеминовичей, а по вере обращённый в католичество православный мирянин. Его отец получил право на освоение бросовых земель за Днепром. Тогда всем казалось, что затея освоить пустоши на Левобережье обречена на провал (после Батыева нашествия тут и воронам было не уютно). Вишневецкий сделал ставку на мосты, дороги, охрану из наёмных стражников. И дело пошло!
К 1645 году количество населения во владениях Иеремии выросло в 7 раз (до 38000 домов и 230000 подданных). Сюда сбегали правобережные крестьяне, привлеченные обилием земли и двадцатилетними налоговыми льготами. В княжескую столицу Лубны собиралась мелкая шляхта, рассчитывая не только заработать, но и сделать карьеру. Возрождённые города стали центрами торговли и ремёсел (некоторые из них получили самоуправление на основе Магдебургского права). Михаил Грушевский писал, что латифундия Вишневецких была самой большой «не только на Украине и в Польше, но, возможно, и во всей Европе.» [Грушевский Михаил Сергеевич. Історія України-Руси Том VIII, часть II [Початок Хмельниччини. роки 1638—1648, Электронная версия].
Империя-латифундия князя Вишневецкого казалась обывателям Речи Посполитой настолько могущественной, что ей одной было по силам потушить пожар Хмельнитчины. Однако, внутри магнатского владения было неспокойно. Дух малоросской революции проник сюда, и вчерашние хлебопашцы преобразились. Они изгоняли княжеских управляющих, разоряли еврейские шинки, требовали, чтобы за ними признавали привилегии козаков. Всё вокруг зашаталось и стало рассыпаться. Вчерашний хозяин необъятного края почувствовал себя неуютно в новом Лубненском замке и решил перебраться поближе к Великопольским землям.
Приезд послов от Хмельницкого пришёлся на тот момент, когда Иеремия разрубил «Гордиев узел», приняв решение об уходе из Левобережья. Письмо гетмана-смутьяна привело его в ярость. Кем возомнил себя этот простолюдин, чтобы предлагать ему (потомку короля Ягайло) переговоры? Вишневецкий даже не мог вспомнить обличье этого козачка, хотя вместе с ним учился в иезуитском колледже. Он демонстративно расправился с послами-запорожцами, чтобы все мятежники знали: «Мира быдлу не будет!».
Княжеский поступок развязал на Польской Украине террор против мирного населения. Обе стороны открыто мстили жителям Приднепровья за их происхождение, вероисповедание и политические пристрастия. Для повстанцев главным раздражителем в этой войне стали евреи. Почему? Религиозный характер конфликта разжигал ненависть к иноверцам, и предавшие Христа иудеи были самой удобной мишенью для фанатиков. Их немного, живут обособленно, преданно служат панам и, вообще, они не «наши» – не «славяне». Еврейские погромы ужаснули всю Речь Посполиту.
Геноцид евреев был обычной практикой 30-летней войны, так сказать – образец европейской культуры «бей чужих, чтоб свои испугались». Десятки тысяч сынов Израилевых, тогда сбежали в мирную Польшу, где неплохо освоились – торговали, производили, служили. Их деятельность была тесно увязана с политикой полонизации. Гражданская война, естественно, поставила их под удар, но на этот раз бежать особо было некуда. Разве, что в Московию?!
В период бескоролевья восточные воеводства остались без защиты. Богдан Хмельницкий наступление главных сил притормозил, но предоставил полную свободу своим летучим отрядам. Сравнительно небольшие формирования до 2000 – 3000 повстанцев проникали на территорию соседних земель и устраивали там локальную войну. Революционная риторика и жажда обогащения за счёт врагов – иноверцев обеспечивали козакам массовую поддержку со стороны местного населения. Как правило, боевая задача для такой «армии» заключалась в разорении городов и замков. Сделать это было не сложно, так как большинство мест проживания внутри Речи Посполитой не было приспособлено для серьёзных осад.
Осаждённые были практически обречены, поскольку никто из власти предержащих не спешил навести порядок в королевстве. Личные амбиции магнатов мешали принятию оперативных решений. Одних устраивало крушение «империи» Вишневецкого, а для других важнее было возвести своего «кандидата» на трон. Ядром посполитого сопротивления были поляки (ляхи) и евреи (жиды). Оба народа для восставших были иноверцами и угнетателями (этакое «коллективное зло»). И тех, и других повстанцы заранее приговорили к смерти. Тотальное уничтожение врагов преследовало несколько целей: вызвать у людей страх и подорвать их веру в победный реванш; выгнать нелояльное население из «козацких земель»; ограбить, вознаградив себя за годы унижений; сплотить православное население соучастием в массовых преступлениях.
Ужас случившегося описывают еврейские хроники («Тит а-Йевен», «Йевен Мецула» и др.). Знакомясь с ними, задаёшься вопросом: «Учит ли людей чему ни будь история?»
Впечатлительным лучше не читать!
В Немирове‚ городе на Подолии‚ шесть тысяч евреев спрятались за крепостными стенами. Двадцатого июня 1648 года казаки во главе с атаманом Ганей подступили к городу с польским флагом‚ чтобы обмануть защитников. Перед ними открыли ворота‚ козаки ворвались в город‚ и резня в Немирове была одной из самых ужасных в страшные дни хмельнитчины. Женщин насиловали‚ детей живьем кидали в колодцы‚ пытавшихся переплыть реку и спастись убивали в воде‚ которая на большом протяжении окрасилась кровью. Немировского раввина Иехиэля Михеля нашли на кладбище и убили дубиной: сначала раввина‚ а затем его старуху-мать.
Козаки отбирали себе молодых евреек‚ крестили их насильно и брали в жены. Одна девушка попросила устроить венчание в церкви за рекой‚ и когда свадебная процессия под звуки музыки двигалась по мосту‚ она бросилась в воду и утонула. Другая девушка уверила козака-жениха‚ что умеет заговаривать пули‚ и уговорила выстрелить в нее и убедиться‚ что пуля не причинит ей вреда; таким образом она избавилась от крещения и от насильственной женитьбы.
В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских солдат и около двух тысяч евреев заперлись в укрепленной крепости. Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в переговоры с козаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с городской стены и шли в атаку‚ преследуя врага. Убедившись‚ что, они не смогут взять город‚ козаки обещали полякам пощадить их‚ если те выдадут им деньги и имущество евреев. Евреи‚ узнав о предательстве‚ хотели перебить поляков‚ но глава иешивы рабби Аарон удержал их от этого‚ чтобы не навлечь на единоверцев ненависть всего польского народа. «Лучше погибнем‚ – говорил он‚ – как погибли наши немировские братья‚ но не подвергнем опасности наших братьев во всех местах их рассеяния». Войдя в город‚ козаки забрали имущество евреев‚ а затем согнали их в одно место‚ поставили знамя и объявили: «Кто хочет принять крещение‚ пусть станет под это знамя и останется жив!». Никто не согласился на измену‚ и козаки перерезали всех‚ оставив в живых десять раввинов – для выкупа. После этого они заявили полякам: «Как вы поступили с евреями‚ так и мы с вами поступим». И перерезали их. С этого момента‚ говорит еврейский летописец‚ «паны держались союза с евреями»‚ временными братьями по страданию‚ и не изменяли им [С. Я. Боровой, Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха Хмельниччины. Книга свёрстана в 1936 г. Электронная версия].
Зло порождает зло! Иеремия Вишневецкий, пытаясь дать отпор козацкому беспределу, был неразборчив в средствах. Его частная армия жестоко расправлялась не только с пленными, но и с любыми обывателями, заподозренными в сочувствии Хмельницкому. Как писал впоследствии историк Костомаров: Иеремия «придумывал самые изощрённые способы и наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, приговаривая «Мучьте их так, чтобы чувствовали, что умирают». [Костомаров Н. И. История России. Полный курс в одной книге. Издательство АСТ, год 2011, с.177]
Размах гражданской войны напугал гетмана Хмельницкого, ведь он не предполагал, что за 3 месяца восстания вся Малая Русь окажется у его ног. Целая страна! Ей управлять надо: законы устанавливать, порядок поддерживать, налоги собирать, экономику развивать… Его запорожцы могли только разрушать, созидателей среди них не было. Богдан стал зондировать почву для замирения с поляками, но у них было безвластие. Да и после большой крови значительная часть посполитых грезила только реваншем. Отбить у ляхов охоту сражаться могло лишь покровительство более сильной державы.
Выбор был небольшой или Османская империя, или Русское царство. С османами проще. Султан придерживался двух правил в отношении вассалов: служи и плати. Остальное его мало касалось. Однако, смущала личность Ибрагима, которого свои подданные за глаза называли «малахольным». Находившийся в цейтноте, Хмельницкий решает прислониться к Москве.
В июне 1648 года в Первопрестольную едут послы от войска Запорожского. Русская столица тогда бурлила – народ поднялся против бояр из-за налогового произвола (Соляной бунт). Юный царь сумел быстро разрулить ситуацию: народных обидчиков (крайних) казнил, недоимки списал, буйных горожан примерно наказал. Когда пар из «кипящего котла» народного гнева весь вышел, то наступил черёд дипломатии.
Письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу было зачитано на заседании Боярской Думы. Основной смысл этого послания передаёт нижеприведённый фрагмент: «…короля, пана нашего, смерть взяла, так розумием, же с причини тих же незбожних неприятелей это и наших, которих ест много королями в земли нашой, за чим земля тепер власне пуста. Зичили бихмо соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ваша царская велможност православний хрестиянский цар, азали би предвичное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все в руках его святое милости. В чом упевняем ваше царское величество, если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавячися, на панство тое наступати, а ми зо всим Войском Запорозким услужить вашой царской велможности готовисмо, до которого смо з найнижшими услугами своими яко найпилне ся отдаемо. С Черкас, июня 8, 1648. Вашему царскому величеству найнизши слуги. Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким.» [Под стягом России: Сборник архивных документов. М., Русская книга, 1992].
И царя, и бояр предложение гетмана-мятежника встревожило. Конечно, возвратить исконные русские земли под царскую длань – дело хорошее. Однако, всем было ясно, что государству такой «подарок» грозит большой войной. Сам Хмель русских с поляками столкнёт и по хитрости козацкой в сторону уйдёт. Одним словом, «троянский конь»!
В тоже время, окружение царя и сам Алексей Михайлович понимали, что дальнейшее развитие страны без движения на запад невозможно. Рано или поздно биться за земли Рюриковичей придётся. Поэтому решили козакам военными припасами помочь, границу для торговли открыть и содействию частных лиц препятствий не чинить.
В это же время Москва не прекращала дипломатические отношения с Варшавой. Русско-польский союз, направленный против османов, сулил немало выгод. Прежде всего он мог посодействовать ликвидации Крымского ханства – разбойничьего гнезда, препятствующего освоению плодородных земель в районе Великой степи. Козачий бунт был выгоден Гиреям, поскольку выводил Польшу из игры, а в одиночку Россия вряд ли могла поставить татар на колени.
Временное правительство Речи Посполитой попросило Алексея Михайловича нанести отвлекающий удар по Крыму. Эта просьба была исполнена. Большой казачий круг Войска Донского объявил поход за зипунами в Гирееву орду. Приготовления станичников всполошили татарских разведчиков, которые своими докладами взбудоражили весь полуостров. Ислам-Гирей мобилизовал все силы для отражения угрозы пиратских набегов, даже Тугай-Бея заставил вернуться из командировки по Малой Руси. Особой надобности в этом не было, но хану не понравились разговоры про удачливого мирзу, одевшего своих аскеров в шёлковые халаты. Слуги не должны затмевать величие Повелителя. Пора орскому бею побегать, держась за стремя ханского коня!
Козаки остались без поддержки татар в тот момент, когда очнувшаяся от спячки Речь Посполита собрала новое коронное войско и решила покончить с Хмельницким раз и навсегда.
ГЛАВА V
СМЕРЧ НА РУБЕЖАХ ВЕЛИКОПОЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ…
Смерть Владислава IV спутала карты всем участникам конфликта, названного в Речи Посполитой «козацкой войной». Шляхта никак не могла определиться, кому из претендентов на престол отдать предпочтение. У почившего монарха было два единокровных брата Карл и Ян Казимир, которые не прочь были наследовать корону. Однако, ни тот, ни другой не обладали необходимой для правителя харизмой. Первый, вроцлавский епископ, до сих пор предпочитал жизнь затворника. Карл ни с кем он не умел ладить – молчаливый, недоступный, скупой, он никого не привлекал к себе.
Его поддерживали сторонники сближения с Австрией, а также шведы, которых раздражали амбиции старшего брата епископа, оспаривавшего у королевы Кристины право на престол (эта заморочка в польско-шведских отношениях возникла из-за давней ссоры в семействе Ваза). Что касается второго соискателя короны, то о нём в Варшаве мало кто мог сказать доброе слово. Высокомерный, необщительный Ян-Казимир с детства мечтал о короне и когда осознал, что из отцовского наследства ему досталась лишь дырка от бублика, то предпочёл польской службе европейские скитания. Воевал, шпионил на иезуитов, сидел в тюрьме и даже носил кардинальскую шапку… Везде не прижился. В конце концов, принц вернулся на родину, но всем своим видом показывал, что всё тут для него чужое и опостылевшее. Его союзниками в борьбе за престол были сторонники французской партии во главе с королевой и противники магнатского беспредела (к ним относили и козаков Хмельницкого).
Бескоролевье устраивало великопольское ясновельможное панство, поскольку оно не позволяло оперативно потушить пожар на Польской украине. Чрезмерно усилившиеся при Владиславе кланы русской знати несли огромные потери от козацкого беспредела и это снижало их шансы в борьбе за влияние на будущего короля.
Хмельницкий, с одной стороны, радовался анархии в столице, но, с другой стороны, столкнулся с проблемой «Как обуздать козацкую вольницу?». Первоначальный курс на всеобщее народное восстание превратил всю территорию Малой Руси в огромный костер, в котором сгорало не только панское господство, но и общественное благополучие. Разорённые территории не могли прокормить десятки тысяч разбушевавшихся селян, и чтобы сохранить это «революционное» войско гетман вынужден был продвигаться на запад.
Угроза вторжения козацкой орды в Подолье и Галичину вынудила русских магнатов объединиться и сформировать огромную частную армию, насчитывающую до 30 000 воинов (а со слугами и обозом – до 100 000 человек). Спонсорам сей кампании не удалось договориться о том кому из них можно было доверить командование. После долгих споров предпочли единоначалию коллективное предводительство.
Карательное войско возглавили: сандомирский воевода Доминик Заславский (за изнеженность и любовь к роскоши прозванный «периной»); коронный подчаший Николай Остророг (учёность и начитанность принесла ему кличку «латина» – из-за латинского языка, на котором писалось большинство научных книг того времени); коронный хорунжий Александр Конецпольский (совсем молодой человек, заслуживший прозвище «дитина» – «ребёнок»). В помощь «триумвирату» Варшава снарядила несколько тысяч коронных жолнеров и аж 32 комиссара с полномочиями «военных советников».
Современник сего безобразия поэт Самуил Твардовский высказался: «Вместо трёх теперь появилось 35 вождей – этого было достаточно, чтобы проиграть не одну битву, а 35 битв…».
Сильной стороной Богдана было, то что он всегда серьёзно относился к противнику. Пёстрая армия магнатов обладала всеми необходимыми ресурсами для победы в сражении. Особенно гетмана беспокоила их панцирная конница, способная за счёт быстроты и натиска разметать повстанческую армию по полю боя, превратив её в лёгкую добычу для наёмной пехоты, закалённой в сражениях 30-летней войны.
Чтобы рассчитывать на успех, нужны были татары. Не вовремя хан отозвал Тугай-Бея в Перекопские степи! Решил, что «синица в руке лучше, чем журавль в небе» и после лёгких побед, принёсших ему немалое богатство, окопался в Крыму. Невдомёк косоглазому, что шляхта после разгрома козаков взыщет с него за все «подвиги» аскеров.
Хмельницкий отправляет гонцов в Бахчисарай с наказом любой ценой вернуть крымцев назад. Миссия была практически невыполнимой. Ислам—Гирей и так испортил отношения с султаном Ибрагимом, когда вместо военной экспедиции на Крит отправил орду в набег на Польскую Украину. Ещё одна оплошность и трон придётся поменять на ссылку в Родосском захолустье, а может и вообще помереть от удушья в шёлковой петле.



