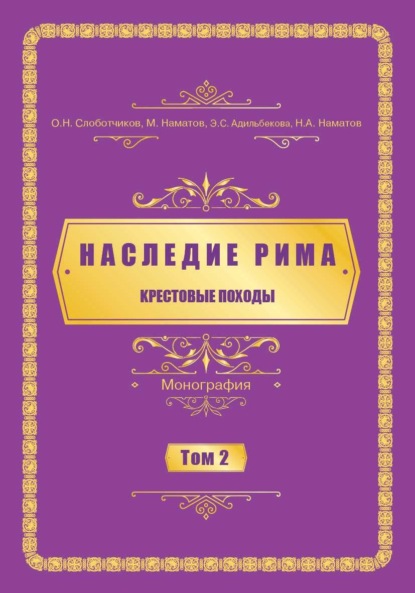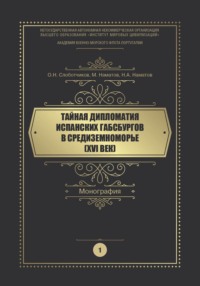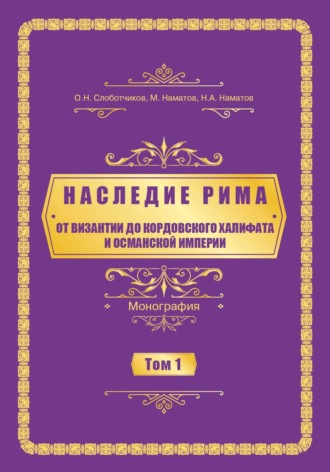
Полная версия
Наследие Рима. Том 1. Oт Византии дo Кордовского Халифата и Османскoй империи
В конечном счете, два периода иконоборческой борьбы характеризовались интеллектуальным и жизненно важным отступлением Византийской империи в ее физические и духовные границы, что способствовало обострению своеобразия ее черт. Со своей стороны, девять лет между 858 и 867 годами, когда противостояние между римским папством и патриархатом Константинополя развилось в результате раскола, были в то же время решающими для непосредственной истории Византии и симптомами будущего из Восточной Европы. Действительно, четыре события этого десятилетия ознаменуют его. Во-первых, это религиозный раскол. [127]
Второй – появление впервые в 860 году русских кораблей под стенами Константинополя. Третий – деятельность византийских миссионеров; как тех, кто проповедовал в Болгарии, чей государь Борис был крещен именем (Михаил) самого императора Византии, так и тех, кто проповедовал в других регионах Балкан, особенно два брата Константин (позже названный Кириллом) и Мефодий. Четвертое из событий 858–867 годов было, без сомнения, началом деятельности этих двух миссионеров, которые, потерпев неудачу среди хазар, обратившихся в иудаизм, были отправлены проповедовать христианство в королевство Великой Моравии.
Это было широкое пространство между Баварским лесом и реками Тиса и Дунай, которое достигло своей автономии в результате разрушения Аварской империи Карлом Великим. Чтобы облегчить распространение своего религиозного послания, Кирилл и Мефодий разработали письменность для славянского языка, так называемую глаголицу (от русского слова «глагол»).
Исходя из этого, в скором времени такая письменность будет заменена так называемой «кириллицей», хотя Кирилл не был ее изобретателем. Вскоре язык стал инструментом, который облегчил перевод священных писаний и юридических текстов на языки народов, населявших большую часть Восточной Европы[128].
В конце концов, это был большой вклад греческих миссионеров. Вместо этого его попытки связать Великую Моравию с миром византийского христианства потерпели неудачу из-за сопротивления германских Пап, князей и епископов, которые считали эту территорию зоной естественного латинского и немецкого влияния. В качестве компенсации болгары, а затем сербы и русские постепенно войдут в сферу политического, культурного и религиозного влияния Византийской империи[129].
Второй золотой век Византии: македонская династияПосле убийства императора Михаила III в 867 году трон перешел в руки Василия I (867–886). С ним началась новая Македонская династия, которая продлила свое существование с этой даты до 1057 года, когда территориальная аристократия совершила государственный переворот, в результате которого на престол был возведен Исаак Комнин.
На протяжении почти двух столетий, под властью македонских императоров, Византийская империя переживала период внутренней политической и социальной консолидации и культурного расцвета, который был назван «вторым византийским золотым веком». В течение этих двухсот лет первый период соответствовал утверждению новой династии между восшествием Василия I на престол в 867 году и смертью Константина VII в 959 году. Возрождение международной торговли, некоторое ослабление деревенских общин и развитие крупных монастырских владений были его доминирующими чертами[130].
Триумф самодержавия и обновление государстваГосударственный переворот в 867 году, во время которого на престол была возведена македонская династия, стал порогом усиления признаков восстановления, которые проявились уже в первой половине IX века. Среди них сама формулировка модели имперской власти, имеющая художественный перевод в иконографии власти, которую новая династия намеренно будет поддерживать.
По сути, образ каждого македонского императора представлялся избранным Богом, представителем Христа на земле, установленным божественным провидением руководить Империей, которая считалась земным отражением Целестиального Царства. Распространение темы символической коронации императора как выражения божественного происхождения его власти в конечном итоге стало главой самой христианской иконографии. Книга церемоний, написанная императором Константином VII, собрала и отрегулировала впечатляющие церемонии, проводимые в аудиториях и дворцовых праздниках, в демонстрации, которую имитировала сама религиозная литургия.
С момента своего основания македонская династия сознательно пересмотрела предыдущие законы. Василий I начал эту задачу с обнародования в 879 году Эпанагога (Epanagogé, или Восстановления законов), нового кодекса, который пытался изменить кодекс Юстиниана и, уже в своем прологе, вероятно вдохновленный Фотием, однажды восстановленным на его патриархальном престоле, исправил функции двух великих императоров в жизни Империи. Император должен был обеспечивать благополучие своих подданных, защищать христианскую ортодоксию и, прежде всего, толковать законы[131].
Те из патриарха, которые всегда подчинялись императору, состояли в толковании канонов и соборных решений, чтобы гарантировать духовную жизнь жителей Империи. Законодательная задача была продолжена двумя преемниками Василия I. Его сын Лев VI (886–911) издал Basilika, или Императорские законы, написанные на греческом языке, которые из-за своей длины и систематизации напоминают законы Юстиниана Corpus Juris Civilis, которые они вытеснили, составляя самое обширное собрание законов Средневековья[132].
Со своей стороны, Константин VII (911–959), сын первого, выполнил задачу своего деда и отца, развивая, прежде всего, регулирование административных органов в своих двух работах: De los temas и De la Administración Empire. Наряду с поддержкой доктрины имперского самодержавия, законодательные усилия способствовали идеологическому и культурному обновлению государственной службы.
Это было распределено в сложной организационной схеме; в ней, помимо канцлера, военных и финансовых полномочий, были развиты полномочия императорского дворца или постов с дворянскими достоинствами. Они составляли настоящую приманку для тщеславия сильных мира сего, которые, помимо непосредственного выполнения государственных функций, утешались положением в дворцовом протоколе, приобретенным путем покупки.
Таким образом, императоры смогли одновременно укрепить имперские финансы и идеологическую сплоченность византийского общества. Территориальное управление, хотя и все еще основанное на системе тем, претерпело некоторые существенные изменения; в частности, два, относящиеся к его стратегическим и фискальным аспектам.
С одной стороны, количество тем увеличивалось, а набор более мобильных наемных войск увеличивался. С другой стороны, старая фигура крестьянина-солдата начала терять свою ценность. Тот же критерий централизации был наложен на армию, которая, имея около двухсот дромонов, участвовала в восстановлении военной инициативы Империи.
Возрождение экономической активностиУкрепление чувства имперской власти и структур правительства и управления опиралось, прежде всего, на два столпа. Во-первых, в способности Македонской династии увеличивать ресурсы Империи за счет сохранения важного государственного достояния и ряда монополий, такиe как шелк и пшеница.
И во-вторых, в сборе налогов, который был увеличен за счет общего обогащения византийского общества, которое приносило дань как за деятельность его торговцев и ремесленников, так и за уплату десяти процентов стоимости урожая или обращение и продажу продуктов.
Усилия Византийского государства по сбору налогов принесли в жертву статус средних и мелких землевладельцев крупным землевладельцам. Они, зная о своей способности предоставить государству ресурсы для удовлетворения потребностей военного развертывания, получали иммунитет от государственных должностных лиц.
Это позволило им оказать давление на сельские общины, которым было труднее, чем в предыдущий период, сохранять независимость от сильных мира сего. Экономическое возрождение IX и X веков имело свое уникальное проявление в восстановлении городской системы, затененной в предыдущих двух из-за общего кризиса Империи и установления системы тем[133].
Такое возрождение проявилось в возрождении торговли и чрезвычайно разнообразном ремесленном производстве, как показано в Книге Епарха, написанной, вероятно, во времена правления Льва VI и подтвержденной простым увеличением населения городов. Они больше не соответствовали модели древнего города, а соответствовали средневековому городу. Они стали региональными центрами, расположенными на территории, которая доминировала над ними, и с морфологией, которая включала в себя культивируемые пространства, монастыри с их садами или дворцы с их садами.
Даже при новом устройстве византийские города были ориентированы на торговую деятельность. Что касается этого, мы мало знаем о внутренней торговле Империи, хотя есть несколько важных ярмарок, например в Фессалониках и Эфесе. Мы больше осведомлены о возрождении внешней торговли, заметном уже с середины IX века в этих двух городах или в других, таких как Херсон и Трапезунд или, немного позже, Коринф и Мелите-на, и, конечно же, всегда в Константинополе[134].
Фактически столица была основным пунктом назначения четырех великих торговых путей, которые связывали Империю с внешним миром. Северный торговый путь связывает с Балтийским морем, и южный торговый путь выводит на Индийский океан. Тот, что на востоке, соединяет далекий Китай с византийскими портами Черного моря. А тот, что с запада, по морю через Адриатику или по берегам Дуная доставлял продукты из Италии, которые привозили купцы из Амальфи и Венеции, которые начали формировать небольшие колонии в византийских городах.
Греческое культурное и художественное возрождениеОбогащение и перестройка Империи вылились в интеллектуальное и художественное возрождение, кульминацией которого стал приход третьего императора новой династии, Константина VII Багрянородного (Порфирогенета, то есть «рожденного в пурпурной комнате» императорского дворцa). Он лично руководил культурной деятельностью императорского дворца, в высшей школе Магнаврa он даже выступал в качестве учителя.
В его время обучение имело своей основной целью подготовку высших должностных лиц Империи и развивалось через кафедры риторики, философии, геометрии и астрономии. Кроме того, был создан информативный корпус энциклопедического характера, который показал его предпочтение в управлении Империей и сельскохозяйственных задачах.
Другие учреждения, особенно монастыри, сыграли значительную роль в возрождении македонской династии, оставившей интересное наследие работ по историографии, теологии и агиографии. Лингвистическим инструментом этого возрождения был греческий язык, на котором жили дворцы, аристократия, монастыри и люди, в отличие от того, что происходило в Западной Европе, где латынь и народные языки разнообразили свои судьбы и функции. Конструктивное и изобразительное искусство также извлекли выгоду из македонского Возрождения.
В архитектуре с начала X в. преобладала модель храма с греческим крестообразным планом, перекрытая куполами. Это будет своего рода прототип, за обобщение которого будут отвечать македонские императоры. Нечто подобное произошло и в живописи: восстановление образов после иконоборческого спора стимулировало развитие фресок и мозаик с отображением очень однородных иконографических программ, основанных на почти уникальной модели. Таким образом, храм возглавляла фигура вседержителя Христа, который занимал центральный купол, а Богородица находилась в апсиде, в месте, подтверждающем ее роль универсального посредника[135].
Расширение византийской области влияния на болгарский и русский мирыЗа девяносто лет, прошедших между вступлением на престол Василия I в 867 г. и смертью Константина VII в 959 г., Империя проявила силу, которая привела к изменению до сих пор оборонительной позиции, которая характеризовала византийскую внешнюю политику. В его рамках характерной чертой X века было снижение внимания к западному и восточному фронтам, оккупированным мусульманами, и посвящение внимания северному фронту, то есть Болгарии и славянскому миру, представленному, прежде всего Киевской Русью.
Внимание Византии к пространству на северо-запад от Империи возросло с того момента, когда в Болгарии власть кристаллизовалась в виде монархии. Начало правления Василия I и, следовательно, македонской династии совпало с рядом обстоятельств, которые привели к включению Болгарии в византийскую орбиту[136].
С одной стороны, крещение монарха Бориса, которого с тех пор называли Михаилом, открыло двери Церкви для болгарского народа в 865 году. С другой стороны, позиция Папы Николая I, раскол Фотия, собственные устремления нового христианского монарха и интересы Василия I способствовали признанию Константинопольским Патриархом болгарской церковной иерархии более высокого уровня, чем один Рим был готов принять.
Это было, конечно, началом отношений между Византийской империей и Болгарией, которые продолжались по пути православной христианизации и влияния византийской культуры. Однако в 894 году отказ империи принять претензии болгарского монарха Симеона, стремившегося получить титул василевса, вызвал вспышку конфликта. Болгарские победы вынудили Византию пересмотреть свое отношение и в обмен на мир согласились платить ежегодную дань царю Симеону.
В 912 году перерыв в оплате послужил поводом для болгарского вождя начать нападение на сам Константинополь, которое закончилось тем, что Византия вернулaсь к уплате дани и призналa Симеона титулом василевса. Конец войны позволил Византии укрепить свое культурное и религиозное присутствие на Балканах, расширив то, что она начала иметь за счет сербов и хорватов, и стимулировал окончательное вступление болгар на путь славянизации и христианизации. Усиление обeих было фактором культурной сплоченности с национальным чувством болгарского населения[137].
Чтобы закрепить свое положение, монархия приняла рост старой боярской аристократии, представляющей тюркские традиции народа, и ее статус великого землевладельца – ситуацию, которую Болгарская церковь начала разделять после христианизации страны. Давление этой земельной аристократии на мелких крестьян вызвало реакцию недовольства, принявшую форму неортодоксальных религиозных движений, в частности ереси богомилов, то есть папы Богомила. Подобно павликианам внутри Империи, он проповедовал радикальный дуализм и враждебность установленной власти и богатству.
Расширение византийской области влияния на славянский мир достигло областей, более удаленных от столицы Империи, в частности территорий, где проживают восточные славяне – русские. Первый контакт между византийцами и русскими произошел в 860 году, когда послы из города Киева предстали перед Константинополем. В течение пятнадцати лет разрабатывались инициативы по установлению среди русских епископальной иерархии под руководством Византии[138].
После этого первого контакта и почти столетие источники молчали. Это молчаниe может иметь две интерпретации, которые были сделаны о характере населенных пунктов славян и о силах, которые привели к их социальному и политическому формированию. Первая интерпретация имела тенденцию подчеркивать оригинальные и «национальные» аспекты славянских творений. Опираясь на основы исторического материализма, русская историография утверждалa, что внутренняя эволюция славянского общества позволила ему достичь уровня видимого очертания империи, особенно в Киевской Руси в середине X века.
В этом процессе присутствие викингов, особенно шведов в русских степях следует интерпретировать только как торговцев или, где это уместно, наемников на службе аристократических славянских меньшинств из разных центров Cтепи. Вторая интерпретация, скандинавская историография, имеет тенденцию подчеркивать роль, которую викинги играли в этой социальной и политической обстановке славян Руси.
Они были далеко не простыми наемниками, а составляли местные полюсы власти, вокруг которых формировалось стабильное население, частью которого были шведские купцы, варяги и славяне. Историографическая борьба, связанная с выявлением матери городов русских, не перестает признавать свою важную роль в X веке, когда присутствие варяжских купцов позволило им стать местами обмена и способствовать контактам славян с внешним миром.
Эти отношения включают те, которые должны были быть установлены в конце IX века между русскими в Киеве и византийцами и характеризовались скорее торговым обменом, чем войной. В этом смысле обращение княгини Ольги, вдовы Игоря, в христианство и ее крещение в Константинополе в 957 году под именем Елены и покровительством императора демонстрируют как обычную динамику византийских международных отношений, так и расширение радиуса действия культуры Империи[139].
4
Кульминации и перемены в Византии
Утверждение македонской династии в Византии и консолидация исламского пространства, объединенного культурой и торговлей и политически раздробленного на три халифата, открыли эту главу в середине X века. Конец этой главы приходится на 1260 год из-за других политических событий. В Византийском мире это конец периода латинского господства в Империи, который начался в 1204 году, и восстановление греческой династии Палеологов в 1261 году. В исламском мире это конец династии Аббасидов Багдада, уничтоженного в 1258 году монголами, и альмохадов на Пиренейском полуострове из-за завоеваний Фернандо III Кастильского и Хайме I Арагонского.
Во всех случаях, хотя даты важны для византийского и исламского пространств, их обоснование в первую очередь евроцентрическое. Именно динамика европейского общества побуждает сделать такой же хронологический разрыв в других средиземноморских мирах.
Конец господства латинского и арабского миров и их слабость как политических образований привела к интеллектуальному и художественному упадку Византии, которая была заменена в этих усилиях областями, на которые ее культура распространялась с IX века: Болгария и, прежде всего, Киевская Русь, а затем и Москва. Что касается ислама, то сегодня мы знаем, что XIII век ознаменовал начало его исторического упадка по сравнению с христианским Западом.
В середине IX века некоторые исторические процессы синтезировали наиболее важные аспекты мусульманских обществ: 1) устранение преобладания арабов в различных политических пространствах: на востоке арабы будут заменены персами и турками, а на западе – берберами; 2) Расширение области имплантации ислама на индуистский Восток и Южную Африку, что будет происходить за счет разделения между западным исламом и восточным исламом: первый будет расселен почти исключительно в Северной Африке; вторая, явно сосредоточенная на Египте в XI и XII веках, в конечном итоге разделится на турецко-монгольский север и египетско-арабский юг; 3) ослабление мысли и художественного самовыражения, отказ от попыток интеллектуальной рациональности, которые характеризовали лучших мыслителей XI и XII веков.
Последнее великолепие и первая смерть ВизантииСмерть императора Константина VII Порфирогенета в 959 году привела в Византию ряд военных императоров, которые почти на столетие восстановили престиж Империи. Ценой постоянной борьбы на границах деятельность этих императоров, особенно Василия II (976–1025), оправдала то, что этот период описывался как «византийский эпос»[140].
В тот период история Византии показала определенный демографический оптимизм в XI веке, особенно в сельском мире, с увеличением производства и относительно эйфорической экономикой в XII веке. Вхождение латинских купцов, особенно венецианцев с конца X века в Империю подтолкнуло ее к отношениям с Западом, ослабило отношения c Киевской Русью и балтийскими государствами, а также с мусульманским миром.
Это принесло меньше пользы государству, чем прежде, и больше принесло пользу аристократии, которой первая уступила часть своих полномочий в силу уступок пронои. Защищенные ими, лорды навязывали себя крестьянству, в рядах которого увеличивались частично вверенные им поселенцы.
Процесс, несмотря на традиционную мощь Византийского государства, привел к его ослаблению, которому также пришлось столкнуться с ударами войск Комнина и наконец, венецианских крестоносцев. Напротив, расширение внешних контактов стимулировало обновление внутренних культурных моделей и их распространение в славянском регионе.
Расцвет македонской династииВнешние признаки второй кульминации Византийской империи, то есть военная активность и наступательная способность, достигли своего пика между 961 и 1071 годами. В 961 году византийцы отвоевали Крит из рук мусульман; в 1071 году они потерпели поражение от сельджуков в Манзикерте и изгнаны норманнами из южной Италии. Эти две даты образуют так называемый «византийский эпос», то есть совокупность усилий, в основном победных и оборонительных, направленных на сохранение Империи.
Империя в оборонеВ 959 году скончался император Константин VII Багрянородный (Порфирогенет). После пятнадцати лет дворцовых интриг и убийств императоров Василий II, внук первого, был провозглашен басилевсом в 976 году. В течение пятидесяти лет он руководил периодом расцвета Империи, неизвестной со времен Юстиниана[141].
После его смерти две из его племянниц продлили свою легитимность еще на тридцать лет, пока смерть второй в 1056 году не положила конец македонской династии. Почти век военных успехов и культурного великолепия, в течение которого Византия снова была активна на трех фронтах и вела экспансию и c концoм македонской династии все достижения империи оказалось под угрозой.
На восточном фронте врагами были мусульмане. Византийская экспансия развивались на море и на суше. В 961 году они захватили остров Крит, а четыре года спустя – остров Кипр. В 975 году византийцы вошли в Дамаск. Им это удалось впервые за более чем три столетия. Успех был недолгим. Однако усилия не прошли даром, так как Империи удалось временно остановить первые вторжения турок-сельджуков.
На западном фронте Византия использовала силу и, прежде всего, дипломатию в своих переговорах с кордовским халифом, чтобы противостоять сарацинским пиратам и флоту Фатимидов, а также с германским императором Отто I, результатом чего станет свадьба Отто II с Византийской принцессой.
Соглашения не препятствовали дальнейшим попыткам немецкого проникновения на южные итальянские территории, оккупированные византийцами, но они обеспечивали определенную стабильность, благоприятную для интересов Восточной империи. Этому способствовали союзы Византии с городами Пиза и Венеция. Благодаря им итальянские республики предоставили византийским войскам свои мореходные возможности в обмен на важные коммерческие преимущества в портах Империи, как это было подтверждено договором с венецианцами от 992 года[142].
С другой стороны, византийские претензии на Сицилию не достигли своих целей, хотя в 1040 году Сицилии помог походoм варягов под командованием норвежского короля. Однако присутствие варягов на острове было своего рода предвосхищением поселения там норманнов.
На северном фронте болгары и русские демонстрировали двойную тенденцию: кристаллизацию монархической власти и определенную нерешительность в отношениях с Византией, что соответствовало движениям к сближению с западным миром. Намерение всегда заключалось в соглашении с самой слабой и самой отдаленной силой, чтобы гарантировать независимость от самой сильной и самой близкой, Византийской империи.
К середине X века Болгария вступила в стадию слабости, которая стоила ей потери Сербии, которая стала независимой, и большей части западных территорий Великой Болгарии. Византия воспользовалась ситуацией, чтобы приостановить выплату дани болгарскому царю, вступить в союз с Киевской Русью, чтобы напасть на него с севера, захватить часть восточной части Болгарии и подчинить болгарскую Церковь Константинопольскому Патриарху.
Болгарское сопротивление было организовано на западе королевства новым царем Самуилом (976–1014). Десять лет спустя этому вождю удалось поднять против византийцев всю территорию Великой Болгарии, от Черного моря до Адриатического моря. К их счастью, русский князь Киевский Владимир (980– 1015) заключил с ними военный союз, который позволил императору Василию II оказать помощь в нападении на болгар с двух фронтов.
Союз был скреплен браком Владимира и сестры Василия II, что стало необычным из-за отказа империи до того времени, принцессaм из рода Багрянородных (Порфирогенет) выходить замуж за варваров. Исключение свидетельствует о высоком уважении Византийской империи к своему союзу с Киевской Русью. Создание военного союза с Киевской Русью в болгарском тылу способствовало победам Византии.
В 1014 году Василий II сокрушил бoлгар и заслужил титул «bulgaroctonos», то есть «истребителя бoлгар». Он нанес жестокое поражение и приказал ослепить всех воинов царя Самуила. Он умер от отчаяния, и Василий II намеревался сделать Болгарию провинцией Империи. Своим триумфом Византия достигла того, что снова смогла доминировать на всем Балканском полуострове, чего не происходило с середины VI века.