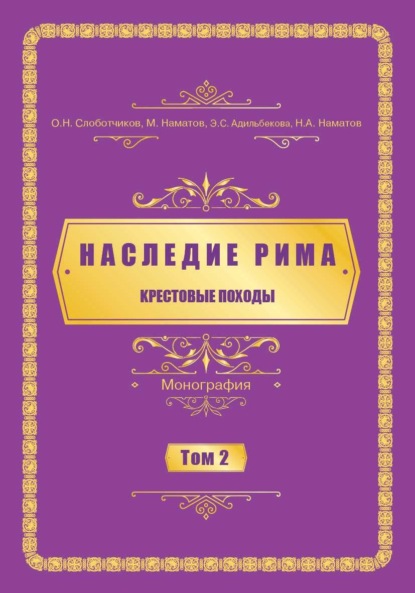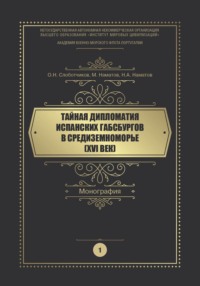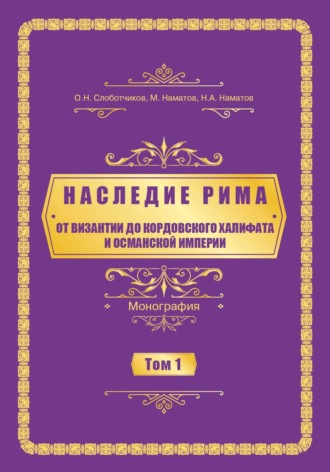
Полная версия
Наследие Рима. Том 1. Oт Византии дo Кордовского Халифата и Османскoй империи
Исследование француза Поля Лемерля посвящено Византии, грека Димитриса Кицикиса – ее «наследнице» Османской империи[46]. Географически это один регион, оказавшийся мостом меж Востоком и Западом и соединивший их черты. Кицикис назвал его «Промежуточным регионом». «Находившаяся на рубеже между Востоком и Западом империя на протяжении одиннадцати веков не только сумела противостоять ударам, обрушивавшимся… то с одной, то с другой стороны, но также смогла выполнить по отношению к ним обеим свою историческую и просветительскую миссию», – пишет Лемерль[47] о Византии.
«Османской империи в зените славы удалось создать уникальную систему равновесия и синтеза, из которой возникло самобытное общество: ни христианское, ни мусульманское, а в основе своей османское… Она прекрасно исполнила роль центра региона, являющегося промежуточным звеном между Западом и Востоком», – вторит Кицикис[48].
Еще Вольтер называл историю Византии «нелепой» и «недостойной»: «Это недостойный сборник высокопарных фраз и описаний чудес. Она позорит человеческий разум так же, как Греческая империя позорила землю».
Поль Лемерль доказывает, что Византия – не «бледный пережиток Римской империи», а самостоятельное государство, способное адаптироваться к новым веяниям и развиваться. За точку отсчета взято 11 мая 330 года – день, когда император Константин основал на месте старой колонии Византий новую столицу, назвав ее в честь себя. «Финишной» датой исследования стало 29 мая 1453 года, когда Константинополь заняли турки, в бою с которыми погиб последний византийский император.
В промежутке уместились множество имен и событий: «Константин. Христианская и восточная монархия», «От Константина до Юстиниана. Борьба с еретиками и варварами (337–518)»,
«Эпоха Палеологов и падение Византийской империи (1261–1453)» (названия глав). Одной из причин гибели Византии оказалось религиозное противоборство Востока и Запада.
Однако в падении империи была «заслуга» не только главных ее врагов – турок. Спасительной для Византии альтернативой мог стать союз латинян и греков под знаменем христианства, но «Лучше чалма, чем тиара!» – такие слова приписывают византийскому госдеятелю Луке Нотаре. А поэт Петрарка писал: «Турки – враги, но раскольники-греки хуже, чем враги». И все же Византия не рассыпалась в исторический прах. Ее, как модно сейчас говорить, преемницей стала Османская империя, которую часто (и ошибочно) называли Турецкой[49].
Все же тюркcкие династии – сначала сельджуки Ирана и Анатолии, а затем мамлюков Египта – доминировали в доосманском исламском мире и установили традиции управления, которые должны были быть унаследованы и усовершенствованы османами. До недавнего времени в Европе[50], а также среди арабов и персов[51] существовали давние предрассудки в отношении тюрoк как в Европе, так и среди арабов, и попытки их принизить.
Но бесспорным фактом является то, что они доминировали и формировали земли, которыми они управляли – Ближний Восток на протяжении тысячелетий и Восточная Европа на протяжении многих веков. Несмотря на это, история Турции и многие аспекты идентичности и роли тюрoк как мусульман, так и турок до сих пор мало известны на Западе и недооценены в арабском и персидском языках.
Немногие за пределами Турции понимают, что именно тюрки, а не арабы окончательно прогнали крестоносцев с мусульманской земли[52].
На роль «третьего Рима» имелись другие претенденты – например, Москва. Но если русские правители обосновывали «наследное право» идеологически, то Османская династия «располагала вполне осязаемыми политическими и географическими аргументами. Налицо была и преемственность в области культуры, религии, политического устройства». В массовом сознании Османская империя давно ассоциируется с «тюрьмой народов», Кицикис показывает, что историческим клише доверять не стоит.
«Империя по определению многонациональное образование», Гегель писал: «Персы покорили многие народы, однако они уважали их особенности: следовательно, их царство может быть уподоблено империи». Автор настаивает, что «формула необходимой терпимости» была характерна и для государства османов. До 1839 года там не существовало официального языка, а турецкий вообще считался «неблагородным» языком крестьян и простолюдинов, на него даже запрещали переводить арабский текст Корана. Высшие чины предпочитали арабский, буржуазия и торговцы – греческий.
Со временем в империи выделились турки и греки, подчинившие другие нации. Причем греки стремились к равенству между турками и греками, но не желали распространить этот принцип на болгар и сербов. К слову, сам Кицикис (р. 1935) – профессор Оттавского университета – именует себя греческим националистом. Впрочем, настоящему ученому политика мешать не должна[53].
В монографии проанализированы и использованы научные тезисы следующих авторов: Эдвардa Гиббон, Анри Пиренн, Поль Лемерль, Фернан Бродель, Хосе Анхель Гарсия де Кортасар, Мария Пиа Педани, Ирен Меликофф, Жан-Клод Шейн, Бернард Льюис, Кэрол Хилленбранд, Джемаль Кафадар, Халил Инальчик, Чийдем Балим, Аделинa Руккуа, Хосе Анхель Сесма Муньос.
1
Наследие Рима на западе: романо-германские королевства
Индивидуализация каждого региона Средиземноморья и детство ЕвропыКаждое из трех политико-культурных пространств: исламский мир, Византия, Европа, – в которых закончилось единство Римской империи, в середине X века демонстрировало четкую тенденцию к построению определенной области цивилизации. Между этой датой и концом XIII века хронологическое ограничение периода оправдано эволюцией европейского общества, хотя в других пространствах некоторые события, в основном политические или военные, могут служить для размещения той же периодизации.
В начале нового периода исламское пространство, самое большое и богатое из трех, было политически раздроблено на три халифата: Кордова (Омейяды), Каир (Фатимиди) и Багдад (Аббасиди), но в культурном и экономическом плане это проявлялось не только в единстве, но симптомах несомненного роста. Поддержанный ими, ислам распространится на внутренние индуистские и африканские миры, которые, таким образом, установят связи со Средиземноморьем.
Со своей стороны, византийское пространство находилось в очевидном политическом, экономическом и культурном возрождении при македонской династии, с которой оно достигло второй кульминации своей истории, почти через пятьсот лет после Юстиниана.
Созданная им динамика, и когда ислам на востоке и юге и германо-латинская Европа на западе ограничили их экспансию, объясняет, почему византийцы нашли свой путь в культурном излучении на севере: во-первых, Болгария; потом Киевская Русь. Центрально-восточнославянский мир станет зоной влияния Византийской империи.
Европейское пространство в конце X века было расширено за счет распространения латинского христианства как на север, в Скандинавский регион, так и на восток, за счет включения территорий венгров и западных славян.
Во второй половине XI века три великие области цивилизации включали, среди своих особенностей, реформаторское, иногда фундаменталистское мировоззрение, особенно действовавшее в Европе и западном исламе.
Развитие этой концепции стимулировало появление отношения подозрения, если не отказа, к культурным проявлениям чуждых областей цивилизации. Это концепция так называемой григорианской реформы в Латинской Европе, aльморавидов в западном исламе, в меньшей степени турок-сельджуков в восточном исламе и, неизбежно отражая внешнее давление, византийцев в переходный период от македонской династии до династии Комнинов[54],
Хотя с середины XI века количество контактов между этими тремя областями увеличилось, тот факт, что такие контакты имели все более воинственный компонент, способствовал идеологической кристаллизации тех же самых областей. С этой даты на протяжении двух с половиной столетий и, несомненно, поскольку мы знаем исход истории, панорама, кажется, характеризуется несомненным ослаблением Византийской империи, политической раздробленностью, экономической активностью и культурным престижем ислама, укреплением латинского христианства, то есть Европы, в его экономическом, социальном и интеллектуальном аспектах.
Фактически в конце XIII века решающей чертой нашей истории (всегда из неприкрытого европоцентризма) кажется окончательное утверждение основ Европы как экономического, политического и культурного пространства. Это обстоятельство и наша собственная принадлежность к этому культурному пространству – вот что защищает решение двух авторов этой работы сосредоточить с этого момента внимание большинства на этом европейском пространстве.
В течение трех столетий на основе роста в нем зародились или кристаллизовались большинство черт, образов и тем, приписываемых средневековому миру, некоторые из них составляют истинные основы нашей цивилизации.
Создание романо-германского обществаПроникновение и расселение варваров на Западе было очень долгим процессом. Он начался в конце II века, с первым давлением на Римскую империю во времена Марка Аврелия, и не закончился до середины XI века, когда появились последние поселения викингов. В течение этого длительного периода обычно различают два этапа: «первые вторжения», между вступлением вестготов в Империю в 376 г. и прибытием лангобардов в Италию в 568 г.; и вторoe вторжениe викингов, венгров и пиратов-сарацин в IX и X веках.
Историографическая оценка этих двух волн перешла от рассмотрения их как катастрофы к рассмотрению того, что они способствовали ускорению внутренних процессов, которые они пережили, и общества, в которoм они жили. Результатом совместных действий захватчиков и вторгшейся первой волны было создание романо-германского общества, в котором «варвары» очень часто вели себя как последние римляне.
Утверждение варваров в ИмперииНачиная с III века Римская империя находилась в глубоком кризисе. Его особенности хорошо известны. Среди них пять кажутся наиболее известными. Утрата городами функций, особенно их способности артикулировать пространство. Сельская жизнь. Ослабление общественных отношений в пользу частных.
Возрастающий вес имперских налогов требует ресурсов, чтобы купить лояльность войск, обеспечить снабжение крупных городов, особенно Рима, или столкнуться с социальными потрясениями и угрозами варваров[55].
И распространение менее гражданских и коллективных и более спасительных и личных религий, особенно христианства. Проникновение варваров в Римскую империю принимало две формы: терпимые вторжения и настоящие вторжения. Оккупанты принадлежали к самым разным этническим группам, хотя для их группировки мы обычно используем коллективное слово «германцы». Их передвижения носили больше характер переселений народов, чем молниеносных нашествий. Его стремлением было найти места для поселения и развить оседлое земледелие в сочетании с животноводством.
В течение столетий со II по IV все они пробовали это в знакомых группах или небольших группах племен, которые Империя приветствовала без затруднений. Но в конце IV века и в последующие попытки предпринимались целыми народами, наделенными сильной этнической сплоченностью, подкрепляемой их собственными религиозными традициями и верованиями.
Только готы начали путь обращения в христианскую религию в арианской версии, проповедуемой епископом Ульфиласом. Вступление этих готов в Империю произошло в 376 году, когда они переправились через реку Дунай в бою, вызванном натиском гуннов, пришедших из степей Средней Азии. Готы были приняты императором неохотно. Два года спустя захватчики, сетуя на то, что римляне не выполняют своих обещаний обустроить их, восстали и в 378 году разгромили имперскую армию в Адрианополе. Битва с победой готской кавалерии над римской пехотой открыла новую эру с точки зрения военной стратегии и состава армий[56].
Поражение и смерть самого императора Валента на поле битвы стали решающими для его преемника Феодосия, заключившего пакт с готами. На основании закона 382 г. готы поселились в Мессии в качестве войск на службе Рима.
На четырнадцать лет ситуация успокоилась, но в 396 году вступление гуннов в Паннонский бассейн нарушило существование других германских народов, которые, в свою очередь, оказали давление и вошли в Империю. Общие направления передвижений германцев в Империи можно резюмировать следующим образом. В 400 году вандалы и аланы вошли в Ретию и Норику, то есть на территории современной Австрии и Швейцарии.
В 405 году группы тех же народов в сопровождении остготов проникли в Италию, распространившись через долину реки По и Тоскану. 31 декабря 406 г. вандалы, аланы и швабы пересекли замерзший Рейн и приготовились вторгнуться в Галлию. Римские войска, дислоцированные в Британии, немедленно отправились на материк, чтобы закрыть брешь, открытую захватчиками в Рейне.
Марш армии покинул остров, оставшийся в руках местных кельтско-римских аристократов, которым немедленно пришлось столкнуться с пиктами. В 408 году вестготы со своим вождем Аларихом вошли в Италию. В конце 409 года швабы, аланы и вандалы пересекли Пиренеи и вошли в Испанию. В 410 году люди Алариха разграбили Рим. Сознание римлян содрогнулось. Чтобы успокоить римлян, Аврелий Августин написал, соответственно, свой «De civitate Dei» («О граде Божьем»), «Confessiones» («Исповедь»), «Христианская наука» и свои cемь книг по истории против язычников: De Trinitate (О Троице), De libero arbitrio (О свободной воле), Retractationes (Пересмотры), Meditationes, Soliloquia, De mendacio и Enchiridion и заново утвердил древнюю веру.
Для Аврелия Августинa вторжения могли быть как инструментом, который позволил другим народам познать истинную веру, так и испытанием, которое напомнило христианам, что они должны возлагать надежду не на земной город, а на небесный. Рейды вестготов через Италию побудили императора Гоно-рия попробовать новую формулу: превратить их в полицейские силы, которые контролировали другие германские народы, вошедшие в Империю. Плата за его первые услуги против вандалов не удовлетворила вестготов, которые в 415 г. впервые вошли в Испанию.
Три года спустя император согласился обустроить их в Аквитании: федус 418 года сделал вестготов федерацией Империи. Это ознаменовало признание Империей первого варварского «царства» на Западе. Решение вестготской проблемы не помешало другим германским народам продолжить свои набеги. Однако император Валентиниан III и Аэций, глава армии Западной Римской империи, казалось, отреагировали только на две угрозы, которые они считали наиболее серьезными. Первые пришли с юга и были вандалами.
В 429 году они пересекли Гибралтарский пролив, кровью и огнем пересекли Северную Африку. Ровно в 430 году они осадили город Гиппона, когда в его стенах умер его епископ Святой Августин. Доминирование их на побережьe Северной Африки позволило флоту вандалов прервать морские отношения между Римом и Северной Африкой. Не имея возможности контролировать их, император согласился подписать новый союз с вандалами. Так родилось второе варварское «царство»[57].
Соглашение не помешало вандалам уничтожить римское общество в Северной Африке.
Вторая угроза пришла с севера и была осуществлена гуннами. Их возглавлял их самый известный вождь – Аттила. Отвлеченные дипломатией Восточной Римской империи, гунны двинулись на запад, пересекли Рейн и вошли в Галлию. В 451 году около Труа, на каталонских полях, генерал Аэций и федерация германских армий с некоторыми римлянами остановили продвижение гуннов[58].
Победа не была сокрушительной, и в 452 году Аттила стал угрожать самому Риму. Посольство знати, в том числе папа Лев I, отговорило вождя гуннов от его намерений. В следующем году Аттила умер, и последовавший за ним конгломерат городов распался. Исчезновение угрозы гуннов, казалось, лишило Империю функций.
В 476 году Одоакр, глава гуннского конгломерата, низложил императора Ромула Августула и отправил имперские знаки отличия в Константинополь. Этот жест означал исчезновение Западнoй Римскoй империи. Вместо этого ряд варварских «королевств», казалось, унаследовали ее власть и функции.
Поселения варваров и их заселение в поселенииИсчезновение Западной Римской империи в 476 году выявило существование на ее территории нескольких автономных областей. В них имперская власть была заменена властью германского короля, и пришельцы внесли свой вклад в изменение поселений, экономической деятельности и оценки сельскохозяйственных и животноводческих площадей в соответствии с тенденцией, которая, начавшись до их прибытия, усилится в VI и XII векax. Вариантов поселения германских народов на территории Западной империи было три. Один из них, самый старый, связан с проникновением иммигрантов в семейные группы или фракции городов, которые искали место для поселения в качестве колонизаторов.
Второй, завоевание, за которым последовало разграбление, произошел только в трех случаях: с англами и саксами в Англии, с вандалами в Северной Африке и с лангобардами с 568 г. в Италии. И, наконец, третья и наиболее распространенная форма – подписание союза с Империей, по которому право гостеприимства было применено к германcкому народу.
С германцами обращались как с союзниками против других врагов, и взамен они получали средства к существованию либо в виде еды и жилья, либо в виде поселения на территории. Этот второй способ был включен в foedus с вестготами в 418 году. На основании этого они были расположены между Тулузой и Атлантическим океаном, и две трети аграрных владений были приписаны им, а оставшаяся треть лесa оставались неразделенными для использования обеими группами[59].
Этот способ распределения также наблюдался при расселении бургундов в области, которoй они дали своe имя, Бургундии, и в области остготов в Италии. Во всех регионах практическая сложность распределения недвижимости между людьми двух общин по-прежнему заставляет некоторых историков предполагать, что распределение было не землей, а, как это было до 418 г., имперскими налогами.
Распределение германцев в Империи и концепция областей политического господства королевств казались ясными в конце V века. В целом каждый город имел тенденцию концентрироваться в пространстве, что позволяло ему обеспечивать гегемонию меньшинствa его воинов над большинством римского провинциального населения. Свебы сделали это в Галлеции, где они были загнаны в угол вестготами, которые, в свою очередь, оккупировали юг Галлии и установили власть в Испании.
В рамках этого они, как правило, сосредотoчивались на треугольнике между Бургосом, Толедо и Калатаюдом, а также на некоторых точках того, что позже стало Каталонией, по обе стороны Пиренеев. Вандалы вскоре покинули Пиренейский полуостров и создали свое королевство в Северной Африке, откуда они доминировали в западном Средиземноморье. На севере алеманы обосновались в современном Эльзасе и районе Вормса.
Франки, разделенные на небольшие королевства, первоначально были распределены поэтапно в районе Рейна. Позднее движение вестготов к Пиренейскому полуострову, ускоренное их поражением при Вуйе в 507 г. от франков, позволило им контролировать почти всю Францию, от Рейна до Пиренеев. Только на востоке бургунды сохранили контроль над долинами Соны и Роны.
Тем временем в Италии остготы устранили герулов, а на крайнем западе Империи англы, саксы и юты расширили свое правление в Британии. Там было редкое население, слабы и нестабильны поселения. В каждом королевстве большинство населения составляли римские провинциалы. Демографический вклад германцев не должен был превышать пяти процентов по сравнению с вкладом римлян.
По большому счету, наибольшие различия были между южной областью (Испания, Франция, Италия), которая была более населена, и северной областью (Англия, запад современной Германии), которая была более пустынной. Эти две области, особенно вторая, были областью леса и болота, что объясняет низкую плотность ee населения, которая также была поражена очень частыми болезнями, некоторые из них, например в 543 году, а другие – в половинe VII века – были особенно смертоносными.
Если населения было мало, поселения были слабыми и нестабильными. Слабыми, потому что население покинуло города с III века и поселились в сельской местности небольшими семейными единицами и небольшими деревнями, многие из которых интегрировались в деревни или большие фермы[60].
Неустойчивые по политическим условиям и по самим характеристикам зданий, построенные из хрупких и дешевых элементов, поселения могли легко изменить свое местоположение.
В соответствии с этой общей чертой на севере территории древней Римской империи был создан более лесной и животноводческий ландшафт, более богатый животными белками, с маслом и салом в качестве основной пищи, в то время как пиво и сидр были доминирующими напитками.
На юге средиземноморские традиции и климат поддерживали гегемонию злаков, винограда и оливкового дерева, с маслом в качестве кулинарного фона и вином в качестве напитка. В этих двух больших районах основным элементом питания большинства населения был простой сбор диких фруктов, речная рыбалка или охота на мелких животных.
Общество:сельское хозяйство и рабствоПоселение германских народов в Западной империи не изменило их структуры. За исключением случая вандалов и, в меньшей степени, англов и саксов, опустошивших предыдущих, пришельцы приспособились к условиям оккупированных регионов и приготовились унаследовать в них власть Империи. Хрупкое выживание городов было, без сомнения, одной из черт царств, пришедших на смену Римской империи. С III века города теряли население в пользу сельской местности. И вместе с населением они потеряли свои функции.
Старая система, сочетающая упорядочивание урбов и упорядоченных территорий, составлявшая одну из опор социальной организации пространства в имперские времена, решительно вошла в кризис. На их месте осталось всего несколько городов, окруженных стеной и захваченных возделанными полями и небольшими отарами овец и коз, которые служили резиденцией для некоторых епископских кафедр и являлись образцом высокого средневекового города.
Спад коммерческой активности стал следствием исчезновения старых городских концентраций. Существовали торговые пути, оба наземные, хотя старые дороги пришли в негодность из-за неиспользования, как и морские пути. Они пережили оживление в середине VI века, когда византийцы Юстиниана оккупировали Северную Африку, южную Испанию и южную половину Италии. Еврейские, сирийские и греческие переговорщики отвечали за снабжение новых богатых на Западе: аристократии, как светской, так и церковной[61].
Если торговая деятельность в районе Средиземного моря несколько снизилась, то активность на атлантическом побережье, которая до сих пор была очень слабой, стала поощряться. В частности, в двух областях: в английских устьях, и прежде всего в Вейкe и Фризии, где в конце VII века города Квентович и Дюрстеде приобрели определенный урбанистический характер.
Раннее средневековье (380–980 годы)Торговля не только уменьшилась, но, прежде всего, изменила свой характер. Речь шла уже не о снабжении населения больших городов, как во времена Империи, а о поставках небольших и ценных предметов, драгоценностей, книг, слоновой кости, шелка, литургических облачений меньшинству богатых людей.
Они в основном производились в Восточной империи, а это означало, что жители Запада должны были отправлять в Византию золото, а иногда и рабов, чтобы заплатить за них. Тот же самый тип торговли, в котором почти не использовалась валюта, характеризовал обмены, происходившие внутри варварских королевств. Хотя бы по двум причинам. В принципе, из-за склонности вилл к самообеспечению или крупной латифундарной эксплуатации.
И, во-вторых, потому, что многие из этих обменов реагировали на модели, которые имели больше отношения к структуре и проявлениям власти, чем к самой торговле. В частности, с обязательным принципом «дарить, принимать и возвращать подарки дополнительно». Эта формула приобрела всю свою ценность, когда Церковь вошла в кругооборот как получатель пожертвований и милостыни, которые она возвращала в виде духовных благ, которые обеспечивали вечное спасение жертвователей. Переоценка сельской местности как сцены жизни и земли как формы богатства объясняет структурирование общества, основанное на деревенской собственности.
Эта тенденция проявилась со времен кризиса III века, и лучшим доказательством этого являются великолепные виллы IV и V веков. Без сомнения, приход германцев стимулировал некоторое распределение земли в тех областях, где они поселились. Но сразу же аристократия (римская, немецкая, церковная) попыталась сконцентрировать земельную собственность[62].
Иногда они делали это в виде больших поместий, в которых жили рабы; другие – в виде бесконечного множества средних и мелких ферм, разбросанных по обширной территории. Аристократии также обладали фискальной, военной, судебной, ранее государственной властью над своими непосредственными иждивенцами и даже над другими, которые, в отсутствие более надежных защитников, доверяли им. Таким образом, территориальные владения сильных мира сего формировались как истинные владения. На другом конце социальной лестницы находилось большинство землевладельцев. Внутри него были рабы, крепостные и поселенцы.