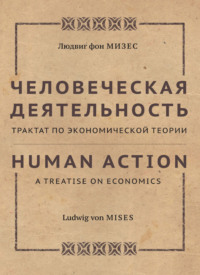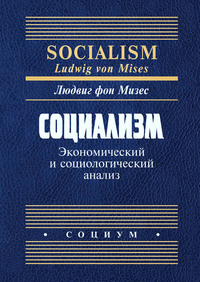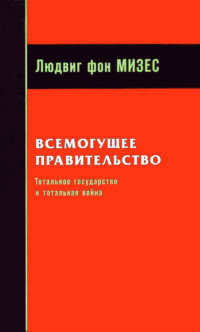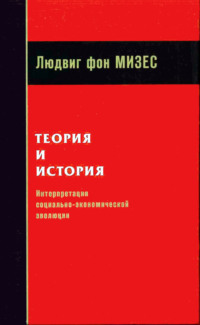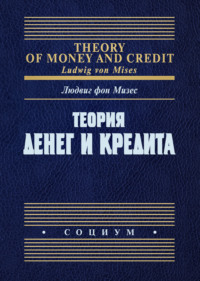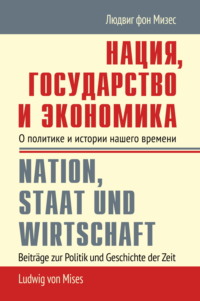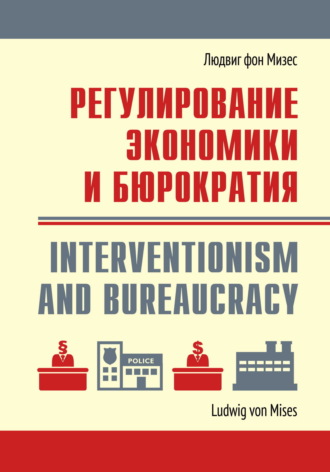
Полная версия
Регулирование экономики и бюрократия
Глубокий кризис, охвативший мировую экономику после войны, этатисты и социалисты характеризуют как кризис капитализма. В действительности же речь идет о кризисе интервенционизма.
В экономике, находящейся в статическом состоянии, могут существовать не обрабатываемые земельные участки, но в ней не могут существовать неиспользуемый капитал или незанятая рабочая сила. При том уровне заработной платы, который устанавливается в условиях не регулируемого властями рынка, все работники находят для себя работу. Если же при прочих равных где-то происходит высвобождение рабочей силы, например в ходе внедрения новых, более экономичных производственных процессов, то это неизбежно влечет за собой уменьшение заработной платы; однако и в этом случае все наемные работники смогут найти себе применение, хотя уже на условиях новых, более низких ставок заработной платы. В капиталистическом обществе безработица всегда представляет собой временное явление, вызванное трением. Различные обстоятельства, препятствующие свободному передвижению трудовых ресурсов из одного региона в другой или из одной страны в другую, могут затруднить повсеместное выравнивание оплаты труда за одинаковую работу. Эти же обстоятельства могут послужить причиной того, что разница в оплате различного по качеству труда может оказаться не столь выраженной, как это было бы в противном случае. Но при условии свободы деятельности предпринимателей и капиталистов эти обстоятельства никогда не могут стать причиной длительной массовой безработицы. Те, кто ищет работу, всегда смогут ее найти, если будут соразмерять свои требования относительно размеров ее оплаты с условиями, предлагаемыми рынком.
Если бы не были нарушены рыночные механизмы формирования системы заработной платы, то результатом Мировой войны и разрушительной экономической политики последних десятилетий могло бы стать снижение заработной платы, но никак не безработица. Безработица, масштабы и продолжительность которой приводятся сегодня как доказательство несостоятельности капитализма, является следствием того, что под давлением профсоюзов и с помощью пособий по безработице величина заработной платы превышает тот уровень, на котором она находилась бы на не регулируемом властями рынке. Если бы пособия по безработице не выплачивались, а профсоюзы не были бы столь сильны, чтобы воспрепятствовать снижению требуемой ими заработной платы за счет найма работников, не состоящих в профсоюзах, то тогда давление предложения установило бы размеры заработной платы на том уровне, на котором все желающие получить работу смогли бы ее получить. Можно, конечно, сожалеть о подобных последствиях антилиберальной и антикапиталистической политики, проводившейся на протяжении нескольких десятилетий, но изменить этот ход событий нельзя. Только путем ограничения потребления, прилагая энергичные усилия, можно возместить потери капитала. И только опираясь на вновь созданный капитал, можно повысить достигнутый уровень производительности труда и соответственно уровень заработной платы.
Нельзя устранить зло, выплачивая безработным денежные пособия. В конечном итоге, на этом пути возможна лишь временная отсрочка неизбежной адаптации заработной платы к снижению производительности. А поскольку пособия, как правило, выплачиваются за счет капитала, а не из доходов, будет происходить дальнейшее проедание капитала с последующим падением достигнутого уровня производительности труда.
При этом не следует представлять дело таким образом, что даже незамедлительно принятые меры по устранению всех препятствий, мешающих функционированию капиталистического хозяйства, сразу же смогут ликвидировать последствия интервенционистской политики, проводившейся на протяжении нескольких десятилетий. В течение этого времени в масштабах, которые трудно себе представить, уничтожались средства производства; еще большее их количество было использовано – в рамках существующей таможенной политики, а также других меркантилистских мероприятий – для решения задач, для которых они вообще не предназначались, и, следовательно, с минимальной эффективностью. Исключение крупных и наиболее плодородных регионов мира (таких как Россия и Сибирь) из системы международного сообщества, основанного на принципах обмена, принуждает проводить непроизводительную перестройку в каждой отрасли первичного производства и переработки. Потребуются годы, чтобы даже при самых благоприятных обстоятельствах преодолеть последствия ошибочной политики последних десятилетий. Тем не менее другого пути к всеобщему росту благосостояния нет.
VI. Доктрина интервенционизма
В донаучном мышлении человеческое общество, основанное на частной собственности на средства производства, представлялось имманентно хаотичным явлением. Его упорядочение виделось исключительно с помощью привнесенных извне моральных и законодательных установлений: общество будет существовать до тех пор, пока покупатели и продавцы придерживаются законов справедливости и честности. Чтобы предотвратить зло, которое якобы может породить произвольный отход от «справедливой цены», необходимо вмешательство властей. Такая точка зрения преобладает во всех высказываниях о различных аспектах общественной жизни вплоть до XVIII столетия. В последний раз в наиболее упрощенном виде она была сформулирована в сочинениях меркантилистов.
Затем в XVIII в. было сделано открытие, подготовленное в ряде более старых трудов о деньгах и ценах, в одночасье заменившее собрания моральных изречений и сведенных воедино перечней разнообразных мер принуждения, сопровождаемых афористическими замечаниями относительно их эффективности или безуспешности, экономической наукой. Было признано, что цены устанавливаются не произвольно, а определяются в узких рамках в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке, и для любых практических целей можно говорить об их однозначной определенности. Также было признано, что законы рынка заставляют предпринимателей и владельцев средств производства работать в интересах потребителей, что определяющим фактором во всей их деятельности является не произвол, а необходимость приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Только эти факты делают возможным существование экономической науки и системы каталлактики[15]. Там, где представители старой школы видели произвол и случайность, в действительности имели место необходимость и единство. Таким образом, стало возможным на место изучения полицейских предписаний поставить науку и систему.
Классической политической экономии еще не достает четкого понимания того, что только частная собственность на средства производства в состоянии послужить основой для общества с разделением труда и что общественная собственность на средства производства не осуществима. Под влиянием меркантилизма классическая политическая экономия противопоставила производительность и прибыльность, тем самым встав на путь, на котором нельзя было избежать обсуждения вопроса о том, не является ли социалистический общественный строй более предпочтительным по сравнению с капиталистическим. Но она пришла к однозначному выводу, что, отвлекаясь от синдикализма, о котором она не задумывалась, существует только одна альтернатива – капитализм или социализм, что меры «вмешательства властей» в функционирование экономического порядка, основанного на частной собственности на средства производства, которых требует глас народа и которые охотно декретируют правительства, не могут достичь поставленных целей.
Антилиберальные авторы не устают повторять, что идеи классической политэкономии служили «интересам» «буржуазии», чем, с одной стороны, объясняется их успех, а с другой стороны, он способствовали успеху буржуазии. Тем не менее трудно поставить под сомнение тот факт, что только свобода, обеспеченная либерализмом, создала условия для беспрецедентного развития производительных сил, столь характерного для жизни нашего поколения. Вместе с тем глубоко заблуждаются те, кто верит, что победу либерализма каким-то образом облегчила его позиция по отношению к «политическому вмешательству». Либерализму совместно противостояли интересы всех тех слоев населения, которые в условиях лихорадочной активности властей оказались наиболее социально защищенными, привилегированными и наделенными особыми правами. То, что, либерализм, вопреки всему, сумел
отстоять свои позиции, следует приписать его интеллектуальному превосходству, благодаря которому он поставил мат защитникам привилегий. В том, что люди, пострадавшие от привилегий, выступили за их отмену, нет ничего нового. Новое состоит в том, что атака на систему, допускающую существование привилегий, оказалась успешной, и этот успех стал возможен исключительно благодаря интеллектуальному превосходству либерализма.
Либерализм одержал победу под знаменем экономической науки и опираясь на ее достижения. Никакая другая экономическая идеология не может быть хоть как-то согласована с принципами науки каталлактики. В 20—30-е годы XIX столетия в Англии была предпринята попытка показать с помощью экономической науки, что капиталистический общественный строй функционирует неудовлетворительно и что он несправедлив. Впоследствии на этой основе Маркс разработал свой «научный» социализм. Но даже если бы этим литераторам и удалось доказать правильность своих обвинений в адрес капиталистической экономики, им пришлось бы привести дополнительные доказательства того, что другой общественный строй, например социализм, лучше капитализма. Однако они не только не сделали этого, но даже не смогли предъявить доказательства того, что общественное устройство на основе общественной собственности на средства производства может быть создано. Отказываясь и запрещая, как это делает марксизм, обсуждать в любой форме проблемы социалистического общества, ссылаясь на их «утопический» характер, разумеется, невозможно решить эту проблему.
Научный инструментарий не позволяет выносить суждения о «справедливости» какого-либо общественного установления или общества. Можно, руководствуясь собственными пристрастиями, рассматривать те или иные решения как «несправедливые» или «аморальные»; иного нельзя ожидать, например, от осужденного. Это столь очевидно, что не требует отдельного обсуждения. Поэтому в наших последующих рассуждениях мы не будем затрагивать данную тему. Для нас имеет значение только следующее положение: до настоящего времени не удалось доказать, что наряду с общественным строем, основанным на частной собственности на средства производства, и общественным строем, в котором господствует общественная собственность на средства производства (синдикализм мы выносим за скобки), или между ними мыслима или возможна какая-то третья форма общественного устройства. Система ограниченной, управляемой и регулируемой властными предписаниями частной собственности, которая претендует на роль некой средней системы, внутренне противоречива и бессмысленна. Любая серьезная попытка реализовать ее на практике по необходимости приведет к кризису, единственным выходом из которого может быть утверждение или социализма, или капитализма.
Таков неопровержимый вывод экономической науки, который никто не пытался оспаривать. Тому, кто хотел бы рекомендовать для практического осуществления этот третий общественный строй регулируемой частной собственности, не остается ничего другого, кроме как полностью исключить возможность научного познания в сфере экономики, как это делали представители исторической школы в Германии и как это сегодня делают институционалисты в США. На место экономической науки, которую торжественно ликвидируют и запрещают, приходит наука полицейского государства, которая регистрирует распоряжения властей и делает предложения относительно тех распоряжений, которые еще должны быть приняты. При этом совершенно сознательно делаются ссылки на меркантилистов или даже на каноническую[16] доктрину о справедливой цене, отправляя в мусорную корзину все достижения экономической науки.
Немецкая историческая школа и ее многочисленные адепты вне Германии никогда не испытывали потребности в серьезном обсуждении проблем каталлактики. Их вполне удовлетворяли аргументы, которые Шмоллер и его ученики, например Хасбах, сформулировали в известном споре о методах. В течение десятилетий, разделяющих прусский конституционный конфликт [1862] и Веймарскую конституцию [1919], только трое – Филиппович, Штольцманн и Макс Вебер – сумели понять проблематичность принципа социальной реформы. При этом из них троих только Филиппович обладал познаниями о сущности и содержании теоретической экономической науки. В его системе каталлактика и интервенционизм располагаются в непосредственной близости друг от друга, хотя и не пересекаются, а решение важнейшей проблемы их соотношения остается вне поля зрения автора. Штольцманн попытался дать принципиальный ответ на этот вопрос, решение которого было лишь намечено Шмоллером и Брентано. Однако в силу объективных обстоятельств эта попытка была обречена на неудачу. При этом возникает чувство неловкости от того, что этот единственный представитель школы, который действительно ближе всех подошел к решению проблемы, не имел ни малейшего представления о точке зрения представителей враждебного ему направления. Макс Вебер остановился на полпути, поскольку, будучи занят совершенно другими вещами, был достаточно далек от теоретической экономики. Возможно, он и смог бы пойти дальше в своих изысканиях, если бы не его безвременная кончина.
На протяжении ряда лет говорят о пробуждении интереса к теоретической экономической науке в немецких университетах. При этом имеют в виду целую плеяду авторов, таких как Лифманн, Оппенгеймер, Готтль и др., которые выступили в решительный поход против системы современной субъективистской экономической науки, из представителей которой они знают только «австрийцев». Здесь не место для обсуждения вопроса о справедливости таких атак. Нас интересует исключительно то воздействие, которое они оказывают на ход дискуссии относительно возможностей системы частной собственности, регулируемой властными предписаниями. Каждый из этих авторов считает наработки экономической теории – физиократов, классической школы политэкономии и современных авторов – полностью несостоятельными, особенно выделяя в их ряду труды современных представителей экономической науки, прежде всего «австрийцев», чьи работы изображаются как плоды непостижимого заблуждения человеческого ума. Вслед за этим каждый из этих авторов предлагает, по его мнению, собственную оригинальную систему теоретической экономики, которая якобы в состоянии устранить все сомнения и окончательно решить все существующие проблемы. При этом у читателей пытаются создать впечатление, что в области этой науки в конечном счете нет ничего определенного и устойчивого и что экономическая теория представляет собой не более чем индивидуальные воззрения отдельных ученых. Популярность книг этих писателей в немецкоговорящих странах может затруднить понимание того, что в действительности существует такая наука, теоретическая экономия, которая как целостное воззрение – отвлекаясь от расхождений в частных вопросах, и особенно в терминологии, – пользуется одинаковым уважением у всех друзей науки и с основополагающими выводами которой, несмотря на все критические выпады и предвзятое отношение, по сути соглашаются даже вышеупомянутые авторы. Без понимания этого невозможно осознать необходимость подвергнуть проверке на состоятельность господствующую систему экономической политики с точки зрения экономической науки.
Рассуждая на эту тему, нельзя также не упомянуть влияние споров о допустимости ценностных оценок в научной деятельности. Представители исторической школы превратили государствоведение из университетской дисциплины в учение об искусстве политического руководства для государственных деятелей и политиков. В университетских аудиториях и в учебниках изучались политические требования к экономике, что преподносилось в качестве «науки». Это «наука» обвинила капитализм в аморальности и несправедливости, выступила против предложенного марксистским социализмом решения как чрезмерно «радикального» и рекомендовала или государственный социализм, или систему частной собственности, регулируемую мерами государственного вмешательства. Экономическая наука перестала быть предметом научного изучения, превратившись в добропорядочный образ мыслей. Особенно с начала второго десятилетия нашего века такое переплетение университетской науки и политики стало восприниматься как нечто предосудительное. Пренебрежительное отношение общественности к официальным представителям науки, которые видели свою миссию в том, чтобы освящать «именем науки» партийные программы своих политических друзей, раздражение тем, что каждая партия считала себя вправе ссылаться на выгодный для нее «научный» вывод, т. е. на вывод следующих в ее свите руководителей научных кафедр, не могли далее оставаться без последствий. И когда Макс Вебер и несколько его друзей выдвинули требование о том, что «наука» должна отказаться от высказывания ценностных суждений, что научные кафедры более не должны использоваться для пропаганды политических идей в сфере экономических знаний, они встретили почти повсеместное одобрение.
Среди тех, кто соглашался с Максом Вебером или по крайней мере отваживался не противоречить ему, были в том числе авторы, чье научное прошлое целиком и полностью противоречило принципу объективности и чьи литературные достижения были не чем иным, как парафразом определенных экономико-политических программ, хотя их понимание «свободы от ценностных суждений» носило особый характер. Людвиг Поле и Адольф Вебер рассмотрели основную проблему интервенционизма, изучая эффективность рабочих объединений в вопросах политики заработной платы. Приверженцы господствующей профсоюзной доктрины, разработанной Л. Брентано и супругами Веббами, были не в состоянии противопоставить их высказываниям сколько-нибудь весомые аргументы. Выход из создавшегося неприятного положения они, как им казалось, сумели найти в новом постулате о «науке, свободной от ценностных суждений». Опираясь на него, они могли уходить от обсуждения любых неудобных вопросов, высокомерно замечая, что вмешательство в межпартийные дрязги несовместимо с высоким статусом науки. Так принцип свободы от ценностных суждений, который Макс Вебер решительно отстаивал в твердом убеждении, что этим он способствует возобновлению научного обсуждения проблем общественной жизни, был использован для того, чтобы защитить доктрины исторической, реалистической школ и школы социальной политики от критики со стороны экономической теории.
Постоянно приходится иметь дело с непониманием, возможно напускным, различий между исследованием научных экономических проблем и провозглашением экономико-политических постулатов. Если, например, в ходе изучения воздействия твердых государственных цен выявляется тот факт, что декретирование цены более низкой, чем та максимально возможная, которая установилась бы на нерегулируемом рынке, при прочих равных приводит к сокращению предложения, и что, следовательно, твердые цены не ведут к изначально заявленной властями цели, и, более того, их введение как фактор политики удорожания противоречит этой цели, то это не является ценностным суждением. Точно так же не является ценностным суждением констатация физиолога, что употребление в пищу синильной кислоты разрушает человеческую жизнь и что «система питания», которая использует синильную кислоту, противоречит здравому смыслу. На вопрос о том, имеет ли в данном случае место желание накормить или убить, физиология не дает ответа; она лишь констатирует, что создает, а что разрушает, что должен сделать кормилец или убийца, чтобы поступить согласно своему замыслу. Если я утверждаю, что фиксированные цены противоречат здравому смыслу, то это означает: они не достигнут той цели, которую, как правило, желают с помощью этой меры достичь. Если, например, большевик захочет заявить: «Именно потому, что эффект фиксированных цен заключается в том, чтобы прекратить функционирование рыночных механизмов, поскольку они превращают человеческое общество в „бессмысленный^ хаос, я желаю их введения, чтобы как можно скорее достигнуть моего идеала – коммунизма», то с точки зрения теории фиксированных цен ему так же трудно будет возразить, как с точки зрения физиологии трудно будет возразить человеку, вознамерившемуся убить с помощью синильной кислоты. Если аналогичным путем будет показана бессмысленность синдикализма и неосуществимость социализма, то это совершенно не будет иметь ни малейшего отношения к ценностным суждениям.
Объявить все подобного рода исследования недопустимыми означало бы лишить экономическую науку почвы для существования. Мы видим сегодня, как много молодых людей, которые при других условиях посвятили бы себя проблемам экономической науки, бесцельно тратят свои силы, занимаясь работой, не отвечающей их наклонностям и по этой причине почти не приносящей никакой пользы науке. И это потому, что, оказавшись в плену у описанных выше заблуждений, они не решаются посвятить себя более важным в научном отношении задачам.
VII. Исторические и практические аргументы в защиту интервенционизма
Представители историко-реалистической школы, загнанные в угол критикой со стороны экономической науки, апеллируют теперь к «фактам»: невозможно оспорить, заявляют они, что все меры политического вмешательства, которые экономическая теория характеризует как противоречащие здравому смыслу, не только имели место в прошлом, но и будут предприниматься в будущем. Нельзя также отрицать, что их якобы несоответствие поставленным целям не отмечалось на практике. То, что интервенционистские нормы пережили столетия, что после исчезновения либерализма мир вновь управляется с помощью интервенционистской политики, является, по их мнению, доказательством того, что эта система успешно реализуема и что она отнюдь не бессмысленна; богатая литература, в которой историко-реалистическая школа отобразила историю экономической политики, полностью подтверждает правоту доктрин интервенционизма[17].
Тот факт, что определенные меры Государственного вмешательства> предпринимались и продолжают предприниматься, никоим образом не доказывает, что они не противоречат здравому смыслу. Он лишь доказывает, что инициаторы этих мер не понимали и не понимают их бессмысленности. И это не может быть оспорено. На самом деле значение политического распоряжения в сфере экономики понять не так-то просто, как это полагают «эмпирики». Без уяснения взаимосвязей процессов, протекающих в экономике в целом, т. е. без всеобъемлющей теории, такое понимание не представляется возможным в принципе. Авторы работ, посвященных экономической истории, описанию экономики, вопросам экономической политики и экономической статистики, обычно недостаточно серьезно относятся к этой проблеме. Не обладая необходимыми знаниями в области теории, они берутся за задачи, для решения которых у них просто-напросто отсутствует необходимая подготовка. То, на что не обратили внимание авторы исторических источников, на которые опираются наши авторы, как правило, также остается вне их поля зрения. При рассмотрении политического распоряжения, относящегося к хозяйственной сфере, они лишь в редких случаях склонны с подобающей тщательностью изучить вопрос о том, было ли это распоряжение выполнено и если да, то каким образом, удалось ли достичь поставленную при этом цель и если да, то была ли эта цель достигнута благодаря именно принятому распоряжению или ее достижение следует отнести за счет каких-либо иных причин. При этом они полностью лишены способности оценить более отдаленные – желательные или нежелательные, с точки зрения их авторов, – последствия предпринятых мер. Тот факт, что среди большого числа этих работ некоторые, посвященные истории денег, отличает более высокое качество, имеет свое объяснение в том, что их авторы обладают определенной суммой знаний в сфере теории денег (закон Грэшема, количественная теория денег), благодаря чему они лучше подготовлены для решения стоящих перед ними задач, чем большинство их коллег.
Наиболее важной квалификацией исследователя экономических «фактов» является совершенное владение экономической теорией. Его задача заключается в том, чтобы истолковать имеющийся материал, руководствуясь ее положениями. Если ему не удается решить поставленную задачу или ее решение не может удовлетворить его полностью, он должен точно указать на критическую точку и сформулировать проблему, которая требует теоретического решения. Тогда другие могут попробовать решить задачу, которая оказалась для него не по силам, поскольку то, о чем здесь идет речь, является выражением теоретической слабости исследователя, а не самой теории. Нет ничего, что нельзя было бы объяснить с помощью теории. То, что теории не могут решить отдельных проблем, не является доказательством их несостоятельности. Несостоятельность теорий проявляется в их несовершенстве как целостной системы. Тот, кто хочет заменить одну теорию другой, должен или встроить ее в уже существующую систему или создать новую систему, в рамках которой эта новая теория сможет найти для себя место. Совершенно антинаучно заявлять о несостоятельности «теории» или системы, отталкиваясь от какого-либо «факта». Гений, которому даровано продвинуть вперед науку на основе новых знаний, может сделать выдающиеся открытия, наблюдая за мельчайшими процессами, не замечаемыми или игнорируемыми другими. Его мысль начинает усиленно работать, как только он приступает к изучению любого предмета. Но первооткрыватель преодолевает старое знание не путем его простого отрицания, а с помощью нового знания. Он всегда остается теоретиком, стремящимся понять общее, всю систему в целом.