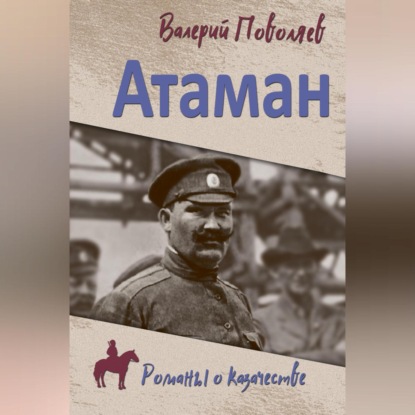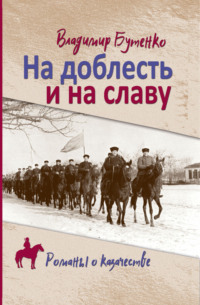Полная версия
Казачий алтарь. Книга 1

Владимир Бутенко
Казачий алтарь
…И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих перед Богом, и книги раскрыты были,
и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни…
И тогда отдало море мертвых, бывших в нем,
и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим.
Откровение, глава XXМой друг – твой товарищ.
Недруг твой – и мой супротивник.
Но если кто третий одному окажется любым,
а другому – ненавистным, то повинны все трое.
И судьи нам, не разломившим хлеб поровну, – шашки.
Казачья клятва
Романы о казачестве

© Бутенко В.П., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Часть первая
1…Мальчишки, гонявшие голубей, видели, как вдруг показались высоко в ясном предвечернем небе два черных крестика и – канули.
Но спустя несколько минут громоподобный гул круто покатился к хутору! Штурмовики низринулись с обожженной зноем выси. Вот уже стала хорошо различима на закругленных крыльях свастика! Ярко сверкнули стекла кабин. Скользнули по улицам изломистые тени. И бомбы впервые рухнули на землю, горячую и родящую, пахнущую, как всегда в августе, молодой пшеницей и полынью.
Война!
Бомбежка застигла многих хуторян на огородах. Будто стеганула по ногам размашистая плеть и – скосила. И лежали они, объятые неведомым страхом, вжимаясь телами в заклеклый чернозем, ощущая непрочность плоти своей и уповая на везение да высшую милость. Господи, сохрани и помилуй! И только старик Шаганов оставался неподвижен. С поднятой головой стоял он на береговой низине, высокий и худой, сжимая в руках косу. Ветер полоскал седую бороду, трепал подол линялой казачьей рубашки. На загорелом лице, искривленном гримасой гнева, шевелились губы. В сердцах он даже замахнулся косой вслед самолетам, устремившимся к святопольскому шляху…
Война!
Как только взрывы затихли, хуторской люд, опасаясь повторного налета, кинулся в укрытия, в прохладу сумрачных погребов. И вновь Тихон Маркяныч Шаганов, вопреки общей суматохе, подался с огорода без спешки, уступая настойчивому зову снохи Полины. Прежде чем спуститься в подземелье, повесил косу под застреху сарая и сладил самокрутку.
Ощупью он спустился на дно каменной темницы, где устоялся аромат дынь, пахло брагой и кислиной огурцов. В напряженной тишине смутно обозначились силуэты женщин, примостившихся на опрокинутой пустой кадушке. Тихон Маркяныч чиркнул спичкой, прикуривая, и заодно высмотрел место на краю рундука.
– Ну, с крещением, милые! – неостывшим голосом проговорил старик и осекся, удивленный тем, сколь громко прозвучали под низкими сводами его слова.
Потрясение от внезапной бомбежки сковало казачек немотой, ни Полина Васильевна, ни Лидия не откликнулись. Лишь в наклонном луче, падавшем от щели в дверце, блеснули испуганные глазенята правнука Федюньки. Он ерзнул на коленях у матери и шепотом спросил:
– Дедунь, а мы долго будем ховаться? А то холодно…
Лидия крепче прижала его к себе, а бабушка сдернула с головы косынку и укрыла плечи мальчонки, глухо проронила:
– Потерпи трошки, болезочка.
Ожидание новой беды томило души. Обостренный слух ловил малейшие звуки во дворе. Вот мимо погреба, квохтая, прошла разморенная жарой курица. Тонко жужжа, в полусвете пригребицы закружилась над ящиком с грушами оса. Потом послышалось, как проволокла цепь Жулька и так же, как обычно при раскатах грома, стала пронзительно взлаивать.
– Значится, уже близко фронт, – вздохнула Полина Васильевна и, помолчав, прибавила: – За грозу, глупая, принимает…
– Немцы? Да, мама? – встревожился мальчик.
– Они далеко, сыночка… Не бойся, – успокоила Лидия, жадно вдыхая запах его волос, припорошенных подсолнуховой пыльцой.
– Ты, Федор, не робь! – ободрил прадед. – Раз есть ты коренной казак, то должон не страшиться. Ни германца, ни турку, ни японца косоглазого. А черт явится – по рогам его! Понятно тобе?
– Ага.
– А как по уставу ответствовать?
Пострел заученно выкрикнул:
– Так точно!
– Во! Сразу видно, чейный ты правнук.
– Такое творится, а вы шуткуете! – не сдержалась сноха. – Яша на фронте. Степан Тихонович наш в голом степу. Сердце разрывается! А вам и байдуже.
– Будя! Неча нюни распускать! – Тихон Маркяныч швырнул окурок под ноги и встал с рундука. – Чо же теперича? Башкой об стену биться?.. Стервятники, небось, уже черт-те иде, а мы тута кости морозим! Вы как хочете, а я добровольно в яме[1] загинать не стану! Да и какой там фронт?.. Самая что ни на есть обнакновенная гроза собирается. По горизонту тучки блукатили.
– Вы куда? Папаша! – всполошилась Полина Васильевна, но своеволец, горбясь, уже поднимался по ступеням. В распахнутую дверцу плеснул багряный закатный свет. Открылся клочок чистого неба. Повеяло теплом. И явственно донеслась канонада.
– А почему так долго гремит? И не гроза это вовсе, а война! – как взрослый, уверенно заметил Федюнька. – Я в кине про Чапая слыхал, как пушки бьют…
Мальчуган замер на полуслове, почувствовав кожей виска, что теплая мамина щека вдруг стала мокрой. Он обернулся и сурово, как прадед, спросил:
– Ты чего, мам? Ты не плачь! Мы с дедуней как возьмем ружье!
– Это я так… Замерзла.
– Не к добру слезы, – попеняла свекровь. – Надо богу молиться!
– Сами текут… А вдруг Яков где-то поблизости!
Полина Васильевна вздрогнула, но ответила не сразу:
– Нет. Далече он. Сердце не вещает.
Настилающийся саднящий гул, показалось, даже здесь, в погребе, колыхнул воздух. Задребезжала сдвинутая крышка кастрюли. Лидия напряглась, сильно прижала сынишку. Полина Васильевна торопливо закрестилась. Но вскоре на дворе стихло.
Тихон Маркяныч заглянул в дверной проем и проворчал:
– Туча самолетов пролетела. Анчибелы проклятые!.. Зараз принесу вам теплую одежу… Оно и правда. Пересидите час-другой. Бес его знает, чо у них на уме… А я вам буду обстановку докладать…
Бывшему старшему уряднику конно-артиллерийского дивизиона Тихону Шаганову на своем долгом веку с лихвой довелось наслушаться и посвиста пуль, и воя снарядов, и сабельных запевок. По приказу Главного управления казачьих войск, в начале столетия, часть, в которой служил Тихон, была направлена в Маньчжурию. В знаменитом сражении под Мукденом донцы-артиллеристы стояли насмерть, до последнего заряда. А затем, смекнув, что взяты в кольцо, ринулись в лобовую конную атаку. Сеча была жуткая. В числе немногих пробился к своим и старший урядник. Обе его руки до самых плеч были окровавлены. На правой запеклась вражья, на левой – своя. В последний миг, заметив летящий сбоку палаш, успел Тихон увернуться, но вскинутую левую ладонь, как веточку, пересекла каленая сталь. Только и уцелели на ней два пальца: большой да указательный.
В станице родной встретили героя с почетом. На груди принес русочубый Тихон два Георгиевских креста, в подсумке – денежное вознаграждение. Казаки грубовато пошучивали: отучил япошка старшего урядника дули крутить… Неделю гулял он напропалую. На радостях пил у себя дома и у родичей, вперемежку со слезами – в куренях погибших односумов.
Но, отведя душу, укротил себя в одно утро. Встал спозаранку сосредоточенным и молчаливым. Свернул цигарку. И впервые после возвращения подробнейше расспросил жену о хозяйских делах. За полтора года его отсутствия они были запущены донельзя. Настя, как ни тянулась, а в одиночку справиться с базом и наделом земельным не могла. Польза от пацанов, Степы и Павлушки, была невелика. Поневоле пришлось влезать в долги. Услышав об этом, Тихон, не привыкший кланяться, хотел было ругнуть жинку, да глянул на ее осунувшееся лицо, на раздавленные мешками и чапигами руки и прикусил губу. Провожала справной, синеглазой молодкой, а предстала – сутулой теткой…
С той же безоглядностью, с какой воевал, принялся Тихон наводить в хозяйстве порядок. Отрока Степку и меньшого как узлом к себе привязал – куда он, туда и парнишки. Крышу чинить – доски подносят, в поле сеять или косить – лошадей погоняют, а травы им накосить, напоить – первейшее мальчишеское занятие. Похваливал казак сыновей: «Вы не тольки заместо отрубленных пальцев, а ишо и третья рука. Ничо, выпутаемся из нужды…»
Бог оказался к Шагановым милостив. В первое же лето уродилась яровая пшеничка, стеной поднялся овес. Гнедая дала приплод, и жеребенка выгодно сбыли в экономию помещика Межерицкого. Осенью Тихон дважды ездил со станичным обозом на ярмарку в Новочеркасск. Торги были большие, завозные. Два Георгия на груди у бравого хозяина действовали на покупателей завораживающе. Перед храбрецом скупиться было неладно. У Шагановых, расквитавшихся с долгами, даже завелись деньжата.
В беспрерывных казачьих заботах, в малых и больших радостях катились годы. Вымахнули «шаганята», как звали их по-станичному, враз, будто окатили снеговой водой. Старший – обличьем копия отца. Сухощав, светловолос, в движениях нетороплив. Такой же, как у батьки, широкий нос, подбородок с насечкой, но в карих глазах не жесткая сосредоточенность, а пытливая задумчивость. В церковно-приходскую школу пошел он на одиннадцатом году, переростком, но окончил ее с похвальным листом. Книг прочитал за три ученических зимы – уйму! И прославился в родной станице Ключевской как грамотей и непревзойденный писарь. Что ни вечер – тянутся к шагановскому куреню жалмерки, обычно по двое. Подав Анастасии гостинцы, заискивающе – к сыну, даром что над губой только пушок:
– Мы до тебя, Степушка. Зачитай от наших служивых весточки да пропиши, пожалуйста, им ответ. Нехай прознают, как мы туточки по ним тоскуем и сокрушаемся.
Серьезный сочинитель прибавлял фитиля в керосиновой лампе, которой премировали его как лучшего ученика. Доставал письменные принадлежности. Казачки присаживались на край лавки. Степан с трудом разбирал каракули их мужей ли, сыновей и возвращал просительницам конверты. Тоном, перенятым у станичного учителя, строго говорил:
– Изложите, о чем мне писать.
Внимательно выслушивал бабью сбивчивую речь. А затем, сведя брови, обмакивал перо и начинал одинаково трогательно: «Разлюбезный и миленький ты наш (следовали имя-отчество)… От письмеца твоего долгожданного возрадовались сердца наши, аки прилетел в курень ангел небесный. Да если б ты только знал и понимал, как соскучились мы по тебе, кровиночка ты наша…»
И так – почти всю зиму. В рабочую пору гостьи случались реже, остерегаясь Тихона, прогнавшего было назойливую Матрену Торбину. А сам Степан никому не отказывал. По натуре был отзывчив, в матушку.
У брата Павлика, напротив, характерец оказался отцовского замеса. Поперек – слова не скажи. И сколько ни убеждай, сделает по-своему. Заденет кто-либо насмешкой – съязвит злей и остроумней. Тронет кто на улице пальцем – сдачи даст кулаком. Силой удался в шагановскую породу, на спор сгибал на колене кочергу. А вот в страсти к лошадям Пашка, пожалуй, превзошел всех в родне. Однако, как ни жалел их, как ни холил коня, а коль скоро коснулось дело его самолюбия – за малым не запорол на скачках общевойскового праздника, в октябре. К счастью, обернулся перед последним поворотом и сообразил, что он недосягаем.
Станичный атаман Кожухов, награждая кинжалом в тисненных серебром ножнах и наборной уздечкой, шевельнул усищами:
– Ты чей? Шаганова Тихона?
– Так точно. Сын старшего урядника Шаганова!
– Молодец. Лихо скачешь. Добрячий из тебя казак выйдет… А на девках? – понизил атаман голос и шутливо подмигнул. – Пробовал кататься?
Члены атаманского правления, стоявшие поблизости, хохотнули, заинтересованно уставились на паренька. Но не так-то просто было смутить этого сорвиголову. Пашка и бровью не повел, отчеканил с вызывающей смелостью:
– Господин атаман, дозвольте правду молвить!
– Говори, говори…
– На Спас вашу Тайку объездил.
– Что-о? Что ты сказал? – распялил рот возмущенный отец, вскидывая руку с насекой. – Да я тебя… Ах ты, мерзавец!
– Виноват. Прошу прощения, – потупился Пашка.
– Пош-шел вон! Лжец ты этакий! – топнул атаман, с трудом сдерживая себя.
Тихон Маркяныч, наблюдавший издали, не понял, почему рассердился станичный голова. На вопрос отца Павлик лишь пожал плечами. Зато на следующий день о том, как «шаганенок» срезал атамана, знали в Ключевской от мала до велика.
Наказание последовало незамедлительно. На ближайшем станичном сходе наряду с прочими делами совет стариков разобрал и жалобу атамановой жены, подкрепленную заключением акушера. Приговор Павлу Шаганову, оклеветавшему непорочную девицу, оказался крут. Тут же, принародно, он был порот. По жребию приводить в исполнение приговор выпало дюжему Константину Дагаеву, но даже ему не удалось двадцатью плетями выжать из строптивца стона. Более того, надев шаровары, Пашка поклонился сходу и запальчиво сказал:
– Благодарю за науку. А правду… все одно буду гутарить!
Тут уж не выдержал отец, дал ему подзатыльника и скорей повел с атамановых глаз долой.
У колодцев сходились болтоязыкие станичницы, качали головами:
– Ишо молоко на губах не обсохло, а дерзкий какой!
– Ни за что ни про что девушку опозорил. Таиска-то и на игрища почти не ходит.
– Э, Нюра, за ними рази уследишь? Бают, справка поддельная, за магарыч взятая…
– И в кого он только уродился?
– Да в кого? В деда своего, Настасьина папашу. Тот тоже был непутевый. Лошадей воровал. В конокрадскую родню весь!
– И дает же бог красоту таким вертопрахам…
И верно, не только девки, но и замужние молодки откровенно заглядывались на Пашку. Ростом он был пониже отца и брата, в плечах – шире. Лицом напоминал мать. Такой же, как у нее, мягкий овал, смугловатая матовость кожи, привздернутый нос, глаза – темно-голубые, заманные. А волнистые черные волосы до того были густы, что всякий раз после стрижки сына Тихон Маркяныч точил ножницы.
Незадолго до Первой мировой Шагановы перестроили свой курень, обшили его досками. О прибавлении в семье хозяин заботился заблаговременно. И когда Степану, работавшему поденно в экономии Межерицкого, нагорело жениться – не стал возражать. Засватали Полинку, дочку садовода, и на мясоед по-хорошему отгуляли свадебные столы.
Полина, девка миловидная и строгая, взращенная в поле, а не в холе, вошла в новую семью желанницей, приняла основные хлопоты по дому. Свекровь, маявшаяся желудочной хворью, охотно уступила ей права первой хозяйки. А Тихон Маркяныч все приглядывался да оценивал. И когда убедился, что сноха ни минуты не сидит без дела и все, за что ни берется, так и спорится в руках, по-отцовски потянулся к ней сердцем.
Подворье Шагановых полого клонилось к берегу Несветая. С тылу, от проулка, заслонял его старый, выбеленный солнцем и ветром плетень, спереди – каменный забор Дагаевых. На улицу смотрела дощатая изгородь, покрашенная такой же синей краской, как и доски куреня. Красная черепичная крыша, желтые ставни и фронтон придавали казачьему жилищу вид веселый и ладный. И, казалось, быть в нем миру да счастью…
Но беда не за горами, а за плечами. Много раз сходили Пашке его проказы, а под святки… В соседнем хуторе Аксайском подстерегли ревнивые соперники-молодцы, припомнили, как отбивал у них присух.
Под утро жалмерка Катерина, не боясь пересудов, привезла Пашку домой на санях; полуживого, окровавленного передала на руки отцу и брату.
Фельдшер, протрезвев после ночных возлияний, приплелся к Шагановым лишь после полудня. Оглядел хрипящего в беспамятстве парня, перебинтовал ему голову и посоветовал прикладывать лед. Уходя, принял трехрублевку, признался, что надежды мало. Пора, пожалуй, соборовать…
Тянули дотемна, пока у искалеченного не стало пресекаться дыхание. Степан побежал за отцом Дмитрием к окончанию вечери. Священник помазал юного мирянина елеем, прочел молитвы, готовя грешную душу к переселению в мир иной. Ошалевшим от горя родственникам наказал смириться – такова воля господня.
Заливал горницу дрожащий свет керосинки. Наискось перечеркнула пол тень Тихона Маркяныча, стоящего посреди комнаты, не спускающего с мертвенного лица Пашки одичалых глаз. Анастасия, приткнувшись в изножье, то гладила ноги сына, то откачивалась назад и, как безумная, мотала распатлаченной головой. Полина торопливо прикладывала к вискам деверя сосульки, сбитые с застрехи. Они таяли, пропитывали влагой подложенные тряпки, светлыми бисеринками осыпали обращенную к родным Пашкину щеку. В мерклом освещении чудилось, что плачет он…
Не говоря ни слова, Степан заложил гнедую в сани, распахнул воротца, выходившие в проулок. И полчаса спустя в курень, помеченный лихом, вошла немолодая горбунья, закутанная шалью. Перекрестилась. Поздоровалась звонким голосом. Негаданное появление знахарки вызвало у родных страдальца странный трепет и прилив последней надежды. Даже у повидавшего виды Тихона Маркяныча мурашки пробежали по спине.
Степан помог тетке Варваре Мигушихе раздеться. Она приблизилась к кровати мягкими шажками, отстранила Полину и положила свои костлявые ладони на голову Пашки, забормотала:
– Черный ворон крылом махнул. Жаба прискакала. Стрелу огненную пустила. Ударила та стрела в добра молодца. Свят, свят, свят! Ударила, да сломалася. Ангел божий летел, отвел ее. Боже правый, боже светлый, к тебе взываю, спаси и помилуй!
Ворожея оглянулась и повелительно молвила:
– Ждите на дворе. Я покличу.
Вернувшись в курень, хозяева увидели, что лицо у Пашки заметно порозовело, грудь вздымалась размеренней и сильней. А горбунья устало сидела на табурете, свесив руки.
– Ну, тетенька? – срывисто спросил Тихон Маркяныч.
Она только покачала головой, вздохнула:
– Бедная деточка. Как же били его!.. Слава богу, кости целы. До зорьки оставьте, не подходите к нему. А коли очнется и попросит пить, дайте настоя наговоренного.
Тетка Варвара повернулась к столу, развязала свой узелок и выставила кувшинец, повязанный белой косынкой. Медленно обратила к Степану длинное, узкое лицо, с косыми уголинами глаз:
– Помоги, милок, куфайку надеть. Ослабела доразу.
…Ночью Пашка пришел в себя.
Вымогался он долго, с большим трудом заново учился говорить. Мигушиха приходила через день, приносила травные снадобья. От приглашения к столу не отказывалась, ела охотно и помногу. Вела беседы о боге, о его милосердии. Выучила своего подопечного особой молитве. И как-то на масленицу, когда Пашка уже начал выходить во двор, он признался матери:
– Как окрепну, пойду к отцу Дмитрию. Хочу в монахи поступить. Дюже мне священное житие нравится…
– Сходи, сынок, сходи, – поддержала та, дивясь перемене в характере Пашки. Был забияка, а теперь – смиренник.
Ярая разгулялась весна. Выгнулись, сбросив снег, вербы. Раздробилась по лужицам щедрая поднебесная голубень. И хворь-тоска семнадцатилетнего Пашки канула вдогон метельным дням. Мало-помалу стал подсоблять по хозяйству, крепнуть. Закалился ветром, загорел, прижилась на губах улыбка, и – позабыл о намерении служить Господу.
В конце мая родила Полина, как и подобает казачке, первенца. Нарекли его Яковом. Радовался молодой папаша до октября. Ударил час идти в армию. Тихон Маркяныч лично купил ему мосластого дончака, казачью справу. Отвез сына в станицу Егорлыкскую на сборный пункт. Проводы были горестными, от Балтики до Черноморья завихрились смертельные дымы войны с Германией.
Через год оставил родительский курень и Павел. Надеялся, что сведут пути с братом в ущельях Карпат, да товарняк по воле командования повез новобранцев на другой край света, на турецкий фронт, к Тифлису.
Обоим служба выпала суровая. На третьем месяце боев отведал Степан венгерской пули. К счастью, рана оказалась несерьезной. Из минского госпиталя снова направили на фронт. Вскоре – второе ранение, в ногу. На этот раз проваляться в госпитале пришлось подольше. Долечиваться Степан отпросился домой, в родную станицу. А по возвращении в действующую армию подстерег случай. Офицер тайной службы, просматривая письмишки казаков, разлагаемых большевистской пропагандой, обратил внимание на каллиграфический почерк и грамотность младшего урядника Шаганова. Степана немедленно вызвали в штаб дивизии. Поручик, прощупав казака каверзными вопросами, убедился в его верноподданничестве и определил к себе писарем.
Павел в первом же бою полез под пули, единственный из всей сотни пробрался к вражеской позиции и был взят в плен. На вторые сутки не только сбежал, но и привел с собой «языка», турка-охранника. Храбрость Пашки дошла и до командира полка. Молодца перевели в особый разведывательный взвод. Ватага в нем сбилась отчаянная. Ночные вылазки казаков держали турок в страхе. Много раз Павел добровольно вызывался идти во вражеский тыл. Смуглый, черноволосый, переодетый в форму турецкого пехотинца, он ничем не отличался от неприятельских воинов. К тому же, способность к языкам позволила ему быстро освоить разговорную турецкую речь. И всякий раз, пройдя вдоль вражеских укреплений, разведчик приносил ценнейшие сведения. К медали «За храбрость» прибавился Георгиевский крест. На погоны, также как у брата, легли две лычки младшего урядника.
В отчем курене повстречались братья в декабре семнадцатого.
Степан вернулся со своей дивизией на родину, а Павел получил отпуск по ранению. Никогда прежде не ссорившиеся, они в первый же вечер чуть было не подрались. Узнав, что часть, в которой служил старший брат, попросту бросила фронт, Пашка стал его подкусывать. Опорожненная бутыль самогона тому способствовала.
– Не поверю я, что сам Каледин такой приказ дал! – горячился Павел, с укором глядя на брата. – Наветы!
– А я тебе правду толкую! От войскового атамана пришла депеша: сниматься и грузиться на эшелоны. Знаешь ты, герой, что наша область на военном положении?
– Знаю.
– А про то, что большевики скинули Временное правительство?
– Слыхивал.
– Потому и свел Каледин наши части на Дон, чтоб ощетиниться. Не позволить мужикам поснимать с нас казачьи шаровары! Эта самая распроклятая советская власть и до Ключевской достанет…
– Дон – Советам? – растерянно спросил Пашка.
– Так точно. А ты упрекаешь, что фронт оставили…
– Нет, я не попрекаю, – задыхаясь от негодования, возразил задира. – Я всех бы казаков и офицеров, кто допустил агитаторов к власти, под трибунал отдал! Продали, суки, веру! Отрекся от присяги – к стенке! Мы там, в горах, загибаем, а вы… шкуры свои спасали!
– Не ори, – осадил отец. – Чо ты на Степку навалился? Он за генерала не ответчик. Вон, полна станица служивыми. Покеда ты тут балакаешь, могет, и твоя часть снялася. Разброд в жизни небывалый…
– Огуляли их, батяня, агитаторы. Не идтить надо было домой, а поворачивать коней на Петроград! Головы брехунам скосить! И возвернуть царя Николая на престол… Было дело, у нас тоже завелся один краснобай. Листовки подкинул. Мол, долой командиров. Так мы ему «темную» учинили, опосля – суд казачий! Чтоб другим не было повадно!
– Ох, ты молодой да ранний, – усмехнулся Степан. – Коли нет терпежу, вступай добровольцем в армию Корнилова. Намедни Кожухов на сходе объявлял. Поглядим, какой ты вояка.
– Да уж не такой, как ты. Блох по бумажкам не разгонял…
Степан привстал, пьяно замахнулся. Но отец вовремя оттолкнул его, гаркнул:
– Ты чо? Цыц!
Глядя исподлобья, Пашка сидел не шелохнувшись. Но, заметив, что пальцы правой руки, зажавшие вилку, побелели от напряжения, Тихон Маркяныч рассвирепел:
– Ишь ты, буян! Пошто Степку обидел? Я вас зараз лбами стукну и раскидаю по углам, как кутят!.. А ну, проси у брата прощения!
Павел отшвырнул вилку и встал, протягивая руку Степану:
– Извиняй. Перелет вышел… Душа болем болит…
Не сразу, но все же и старший брат подал свою ладонь.
Дружба что камень, расколется – не срастишь. За три недели, которые гостил Павел, стычек между братьями больше не случалось. Внешне держались они миролюбиво, а душевная близость выветрилась враз, как дух цветущего абрикоса.
Наперекор всему и всем Павел отправился в Новочеркасск. Матери объяснил, что необходимо показаться доктору, – колотая рана на спине мокрела, не рубцевалась. Отцу и брату сказал правду:
– Буду проситься в корниловское войско… Нюхом чую: поганое против нас удумали «большаки»! Вон, гутарят, самый Ростов захватили… В лапотный полон не пойду! Либо пан, либо пропал…
А Степан не решился оторваться от семьи. С головой ушел в хозяйские дела. Хвостиком бегал за ним Яшка. И уступчивый отец, сдавшись на уговоры мальчугана, позволил Полине пришить свои погоны на его кожушок. Вечерами подолгу рассказывал смышленому казачонку про Муромца-героя…