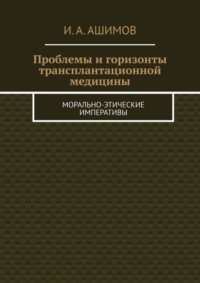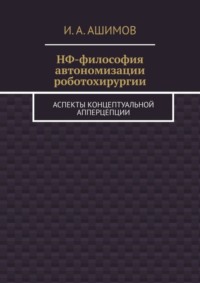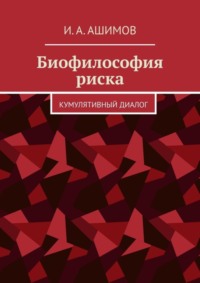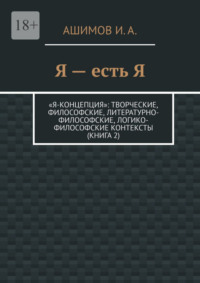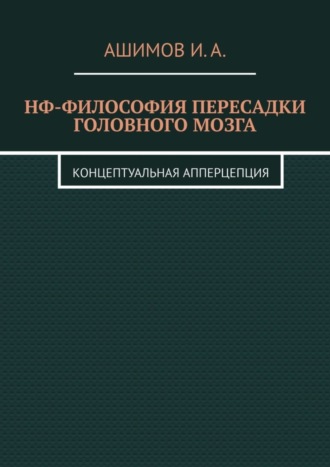
Полная версия
НФ-философия пересадки головного мозга. Концептуальная апперцепция
Теоретически клона можно вырастить и без воздействия на мозг. Он даже никогда не будет приходить в сознание, начиная с момента своего появления на свет. В некоем аквариуме с физиологическим раствором будет плавать тело, которое быстро вырастет с помощью специальных технологий до величины взрослого человека [130,296].
Изгибы позвоночного столба, мышцы, связки – всё это формируется из-за того, что человек двигается. Поэтому, скорее всего, самый простой способ получения клонированного тела – это воздействие на эмбрион, в результате которого появившееся на свет существо будет животным, а не человеком. Потом это животное можно вырастить в клетке до размеров взрослого человека. И следующий шаг – это пересадка головы оригинала на тело животного. Что мы получаем в итоге? Получим серьёзный эффект омоложения – убеждают ученые [127,151].
По их мнению, голова будет старая, но она омолодится: кожа разгладится, исчезнут морщины, зрение улучшится, отрастут волосы, улучшится работа головного мозга. Получив новое тело, останется нужным только заботиться о том, чтобы поддерживать в порядке свой омолодившийся мозг. Это намного проще, чем поддерживать в работоспособном состоянии весь организм.
Профессор Р. Вайт считает, что пересадка головы будет новой эпохой в мировой медицине и, безусловно, даст уникальные возможности бесконечно продлевать жизнь человеку, подбирая новые и здоровые тела клонов или тех людей, чья жизнь оборвалась по случайности или по неосторожности [15,60]. Трансгуманисты считают, что выращивание органов по отдельности и параллельное омоложение существующего организма (в т.ч. мозга) на микро- и наноуровне, имеет более реальные перспективы. Безусловно, над сложностями пересадки головы довлеют, прежде всего, регенерация нервов.
Если не найти эффективные пути активизации нейрорегенерации, даже после успешной пересадки, пересаженный головной мозг окажется отключенным от всего тела. Нейрохирургу Ф. Швабу (Германия,1998) удалось осуществить регенерацию нервных отростков и провести сращивание перерезанных нервных волокон спинного мозга у крыс. При этом парализованные крысы обрели подвижность [102,159].
В последнее время появляются сообщения о составах на основе наночастиц и стволовых клеток, способных «включать» регенерацию нервной ткани. Возможно, в недалеком будущем восстановление разорванных нервных окончаний станет реальностью, и тогда вероятность успешной пересадки головного мозга реализуется. Сегодня мировое сообщество трансплантологов после полной пересадки лица, с оптимизмом думает, наконец, о пересадке головы [168,199].
Таким образом, пересадку головы целиком даже самые опытные хирурги делать пока опасаются. И связано это не только с отторжением, а, главным образом, с трудностями соединения разорванного спинного мозга головы и тела-донора. В этой связи, мы задались целью осветить проблемы нейротрансплантации, как модели мировоззренчески противоречивой медицины будущего.
Для социологии и философии медицины важна проблема нейротрансплантации как модели мировоззренчески противоречивой медицины будущего. Нужно отметить, что связать воедино тысячи нервных окончаний такого жизненно важного органа, как головной мозг, пока не под силу даже самой «тонкой» технике. Если собственно пересадка головного мозга и удастся, то тело человек останется парализованным. В указанном аспекте, нейротрансплантация, как научная специальность и как отдельное специфичное направление трансплантации органов и тканей, приобретает особую актуальность и приоритетность [263].
Термин «нейротрансплантация» обозначает трансплантацию эмбриональной мозговой ткани в головной или спинной мозг. Истории известны случаи пересадки ткани мозга взрослой кошки в головной мозг собаки, случаи трансплантации участков коры больших полушарий у взрослых кроликов. Такие исследователи, как У. Томпсон (США,1890) и В.С.Салтыков (Россия, 1905) экспериментируя пересадку ткани мозга пришли к заключению, что пересадка взрослой нервной ткани в головной мозг млекопитающих безуспешна. Однако, чуть позже другие исследователи успешно осуществили трансплантацию ткани эмбрионов или новорожденных животных в головной мозг взрослых млекопитающих [129,266].
С 1970 году во многих странах мира стали проводиться исследования с трансплантацией эмбриональной нервной ткани в мозг млекопитающих. Опыты показали, что при соблюдении определенных условий трансплантаты не только приживляются, но и дифференцируются, разрастаются, устанавливают тесные морфофункциональные связи с мозгом реципиента. Были проведены множество экспериментов, которые показали, что трансплантация приводит к уменьшению симптомов паркинсонизма и нормализации двигательных функций у экспериментальных животных [19,129].
О. Баклунд, Л. Олсон, А. Зайгер (Великобритания,1983) выполнили первые операции с аутотрансплантацией мозговой ткани при тяжелой форме паркинсонизма. И.Н.Виноградов (1991) осуществил более 200 нейротрансплантаций и на основании своих исследований однозначно интерпретировал их результаты, как благоприятные [29].
Использование в качестве трансплантата эмбриональной человеческой ткани ученые столкнулось с целым рядом морально-этических проблем, которые стали предметом обсуждения соответствующих специалистов на многочисленных научных форумах по трансплантации, а также Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА). Следует заметить, что важным этическим документом, регламентирующим трансплантацию, является «Декларация относительно трансплантации человеческих органов», принятая ВМА (Мадрид, 1987).
«Положение о трансплантации фетальных тканей», принятое ВМА (Гонконг,1989), регламентирует трансплантацию, в том числе и нейротрансплантацию, с использованием фетальных тканей [53,122]. Безусловно, это прогресс, а между тем, оказывается, что разнообразие приложений не только открывает многообещающую перспективу, резко увеличивает потребности в трансплантации нервных клеток, но и создает ряд серьезных этико-правовых проблем, связанных с прагматизацией проведения абортов.
К концу XX в. уже было выполнено более 2000 нейротрансплантаций. Были представлены обнадеживающие результаты мозговых трансплантаций у больных церебральным параличом, а также больных с задержкой психического развития, микроцефалией, синдромом Дауна, атрофией мозговой коры, торсионным спазмом, мозжечковой атаксией и даже рассеянным склерозом [19,129].
Таким образом, в настоящее время нейротрансплантация выполняется более чем в 14 странах мира, в которых правовой и этический подход к трансплантации эмбриональной ткани в мозг человека различный. Для решения проблем были разработаны конкретные правовые положения, которые неоднократно обсуждались на многих конгрессах и симпозиумах по трансплантации в разных странах мира и в специальной литературе.
Европейское общество трансплантации и регенерации «Nectar» сконцентрировало усилия на развитии эффективных, надежных, безопасных и этически приемлемых методов лечения нейродегенеративных заболеваниях путем нейротрансплантации [122,294]. В 1994 году были опубликованы «Основные этические принципы использования человеческой эмбриональной ткани для экспериментальных исследований и клинической нейротрансплантации».
В «Nectar» сформулированы самоограничивающие основные этические принципы нейротрансплантации для Европы, целью которых является предотвращение использования трансплантатов от договорных абортов, а также соблюдение высоких стандартов уважения жизни и человеческого достоинства [6,12]. Были приняты положения, регламентирующие проведение нейротрансплантаций в клинике в соответствии с международными и внутренними правилами.
Важно подчеркнуть, что расширяющиеся технологические возможности аутополучения стволовых клеток из различных тканей потенциального реципиента, очевидно, видоизменяют морально-этические аспекты нейротрансплантации, значительно оптимизировав их. Однако эти подходы не исключат строго обоснованной юридически и морально-этически практики использования эмбриональной нейроткани в клинических целях, в реальной медицинской практике ХХІ века.
Следовательно, морально-этические и правовые аспекты трансплантации всегда будут звучать актуально. В этом плане нейротрансплантация как метод восстановления функций центральной нервной системы, обладающий совершенно особой клинической эффективностью, может рассматриваться как модель медицины будущего.
В данном разделе нами затронута лишь часть проблематики в области нейротрансплантологии, выдвинутой самой жизнью и олицетворяющей прогресс медицины. Ее основополагающий компонент – морально-этическое опережение и сопровождение данной отрасли здравоохранения. Учитывая сложность и многогранность этого нового направления, мы задались целью осветить проблему пересадки головного мозга, как предмет социологической рефлексии.
Для социологии медицины, безусловно, важна проблема пересадки головного мозга, как предмет не столько социологической, сколько философской рефлексии. История, социология и философия науки знает немало примеров, когда некоторые научные направления вызывали у ученых и общественности серьёзные этические и нравственные сомнения.
Как подчеркивалось выше нейротрансплантация, как модель будущей медицины, и пересадка головного мозга дают возможность ощутить вкус реального будущего. В настоящее время, интерес ученых вызывает, как это не парадоксально, в первую очередь феномены, которые невозможны просто по определению, нигде и никогда, «то, чего вообще не может быть».
В этой связи, находим нужным привести таблицу наиболее важных открытий, которые помогут преобразовать или изменить мир, составленной Г. Ретрей Тейлором («Биологическая революция») [40,81]. Первая фаза (1971—1975): трансплантация членов и органов тела; оплодотворение человеческих яйцеклеток в пробирках; имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины; неограниченная консервация яйцеклеток и сперматозоидов; предопределение пола по желанию; бесконечное продление клинической смерти; искусственная плацента; синтетические вирусы. Вторая фаза (1976—2000): полностью перестроенные организмы; продление молодости; регенерация органов. Третья фаза (> 2000 года): отмена старости; мозг, отделенный от тела; соединение мозга с компьютером.
Практически наиболее важные открытия первой и второй фазы состоялись. Мы являемся свидетелями того, что в мире развиваются такие авангардные научные направления, как наноработизация, пантокриатика, цереброматика, сеттлерика и пр. Следует заметить, что до недавнего времени, трансплантология вызывала сомнения, но с тех пор, как успешные операции по пересадке органов в мире приобрели конвейерный характер, сомнения в вопросах морали и этики явно отошла на задний фон.
На наш взгляд, это обманчивая картина триумфа трансплантологии. Ежегодно в мире производятся сотни тысяч пересадок органов. Однако, любая цифра – существо безликое, ее можно использовать для любого обоснования. В частности, если говорить о многотысячных злоупотреблениях и нарушениях в сфере органного донорства, то следовало бы ввести всемирный запрет на трансплантологию, но если говорить о том, что, благодаря пересадки органов можно спасти жизнь сотни тысяч людей, то следует отметить всемирную приоритетность развития трансплантологии [131,158].
В указанном аспекте, трансплантология представляет собой двуликий Янус, одним ликом, обращенным к реципиентам, а другим к потенциальным донорам. В этом плане, нужно отметить, что каждый из доноров и реципиентов обладают своей автономией и зачастую противоположными интересами.
В последние годы все чаще говорят о том, что современная трансплантология вошла в политический тупик, когда интересы одних (доноров) не совпадают с интересами других (реципиентов). Антрополог Р. Фокс и социолог Ю. Свэйзи (1992) после 30 лет исследований в области трансплантологии оставили работу, возненавидев разом и саму медицину, и органное донорство, а заодно и граждан, страстно желающих продлить свою жизнь путем пересадки органов и тканей. А между тем, это мнение профессионалов, которые, как известно, в своей области «видят лучше и дальше».
Нужно заметить и то, что с каждым годом ученых и специалистов с технократическими убеждениями становится все больше [161,200]. Нужно отметить, что культура Запада достаточно либерально отнеслась к новым технологиям, без особого внимания к социальным последствиям и проблемам, вне серьезного интереса к теоретическим спорам биоэтики и медицины. Такой «культурный» снобизм стал идеологическим эквивалентом технологического прогресса.
Следует отметить, что работы представителей западной биоэтики выстраиваются в своеобразной конфронтации к гуманитарному дискурсу. Нынешние ученые – сторонники технологического прорыва, прототипы таких теоретически перспективных технологий, как нейротрансплантация, советуют рассматривать не только и не столько с позиции гуманизма, как и особенно трансгуманизма в аспекте реальных и гротескных вызовах современной трансплантологии и смешениях примеров возможных результатов в будущем [9,227].
Признавая то, что нейротрансплантация, включая пересадку головного мозга, является своеобразной моделью мировоззренческих противоречий в медицине будущего, нужно признать и тот факт, что сама позиция рассмотрения и разрешения также является не менее противоречивой. Речь идет о противоречивых позициях гуманизма и трансгуманизма на одни и те же проблемы.
В настоящее время задаются вопросом насколько самодостаточен гуманизм в решении новых и сверхновых проблем? Общеизвестно, что гуманизм – это манифест личности человека, как высшей ценности, безусловное признание права личности на жизнь, здоровье, благополучие, свободу, счастье, но при безусловном соблюдении симметричных прав других личностей. В этом аспекте, данный манифест должен, безусловно, определять смысл и содержания форм социального прогнозирования и регулирования, в том числе в сфере «проблем-последствий» новых технологий, включая пересадку головного мозга [9,233].
Как известно, религия является оплотом и гарантом гуманизма. Нужно отметить, что, несмотря на то, что все мировые религии достаточно позитивно продвинулись в понимании запросов трансплантационной практики, но они так и не смогли окончательно договориться о целостности тела в момент погребения. В этом плане, любопытно то, что, признавая и поддерживая трансплантологию, в то же время высказываются достаточно жестко против дальнейшего развитие системы органного донорства [17,20].
Взгляд на человека, как на совершенно особое существо, (в библейской традиции – «образ божий»), не имеющее аналогов в природе, не подлежащее изменению и обладающее надприродными свойствами, заведомо недоступными для изучения и воспроизведения в рамках науки и технологии – это религиозный глас, запрещающий весь спектр исключительно важных исследований, связанных с повышением прогностической и технологической эффективности разума.
Религии задаются вопросами следующего характера: человек умер, его душа отлетела, мозг остался в теле. Разве его мозг без души не мертв, а потому разве его можно пересаживать? Нельзя отождествлять мозг с душой, ибо он хоть и связан с ней таинственным образом, тем не менее, мозг лишь орудие высшей нервной деятельности. А вот как душа проявляет себя через высшую нервную деятельность, нам неизвестно – это тайна Божия. Но она себя совершенно четко проявляет, а разум помогает нам облекать в слова то, что дает душа – утверждают теологи. В целом, мнение религиозных конфессий заключается в том, что для человека пересадка донорского головного мозга – неприемлема. К тому же чужой мозг – это чужие знания, ощущения, память.
Память относится к области души. Мозг состоит из многих-многих миллионов микропроводников, которые напоминают сложную компьютерную систему. Безусловно, там есть какие-то накопители памяти. Но область памяти связана неразрывно с нашей душой, которая проявляет себя через высшую нервную деятельность – таково мнение представителей религии [19].
Никто не знает где хранится память о тех или иных событиях? Это – тайна, это область для нас непостижимая, и мы должны здесь остановиться – призывают теологи. Почему говорят, что память милосердна? Ведь человек зачастую забывает плохое, а помнит хорошее, светлое? Это все проявление нашей души, которая по сути своей – божественная. В связи с изложенным выше, нужно признать иллюзией то, что в вопросах гуманизма религия обладает исключительной компетентностью.
Нужно отметить, что страх поступить греховно, то есть не в соответствии с «божественным предназначением» – это тенденция к догматизации знания, то есть к приданию даже научным доктринам характера «священных истин». К сожалению, во многих науках, в особенности, медицинских, такая тенденция нарастает.
Нужно признать, что малые войны между миром рациональным и миром иррациональным в эпоху биотехнологий постепенно становятся главной ареной борьбы нового века с «предрассудками» и «суевериями» прошлого тысячелетия. В указанном ракурсе, трансгуманизм свободен от запретов на технологии, постулирующие возможность таких манипуляций с человеком, как компьютеризация (нанороботизация), копирование сознания на синтетические носители (сеттлерика), «синтетические радости» (фантоматика и цереброматика) и, наконец, полная переделка конструкции человека и его окружения (пантокреатика).
В этом аспекте, трансгуманизм считается рациональным, основанным на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрением, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека [55].
Трансгуманисты считают, что раз трансгуманизм исходит из рационального взгляда на человека – значит, разногласия находится там, где гуманизму недостает рациональности. В этом плане, должна быть область принципиальных разногласий, где трансгуманизм подвергает сомнению некоторые основы гуманизма. Это очень важное допущение, когда речь идет о таких мировоззренчески противоречивых направлениях науки, как нейротрансплантаций, включая пересадку головного мозга [9]. Тезис о том, что «некоторые „фундаментальные моральные идеалы и ценности“ должны быть внушены человеку любой ценой» привели к тому, что возникли целые поколения «фундаментальных идеалистов».
Как подчеркивалось выше, под гуманизмом понимается мировоззрение и образ жизни, основанные на уважении к человеку, на признании его права на самостоятельное развитие, его ответственности за свою судьбу и соблюдение общепризнанных моральных норм и законов. Следуя вышесказанному, можно сделать следующее допущение: явно и неявно предполагается, что моральные нормы и законы унифицированы, общепризнаны и априори соответствуют перечисленным правам человека, а понятие «человек» тождественно понятию «личность».
Трансгуманизм оспаривает это и предполагает, что в своей основе трансгуманизм является новым этапом в развитии гуманизма и является научно ориентированным мировоззрением, согласно которому современный человек не является вершиной эволюции, но, скорее – началом эволюции вида Homo Sapiens [9]. В «Основах современного гуманизма» (В. Кувакин и др.), говорится: «Целью гуманизма является научить человека быть на уровне своих возможностей, помочь ему наилучшим образом адаптироваться к среде обитания, научить человека партнерству, плодотворному и взаимоприемлемому сотрудничеству с миром природы, с обществом, с себе подобными и самим собой» [56].
Трансгуманисты считают, что гуманизм выполнил историческую миссию, изгнав догматику и мистику, но при этом образно говоря «не трогая самого человека». Трансгуманизм постулирует возможность таких манипуляций именно с человеком, как пересадка головного мозга, нейротрансплантация с эффектом «присутствия» личности после смерти человека, компьютеризация с копированием сознания на цифровых носителях (сеттлерика), и, наконец, полная переделка конструкции человека и его сознания.
На наш взгляд, позиция трансгуманизма наиболее «благоприятна» именно при рассмотрении проблем пересадки головного мозга или всей головы в целом. Именно при пересадке головного мозга существуют множество сомнений, а тезис о том, что «мы вправе бояться того, чего не понимаем» приобретает особую актуальность.
По мнению ученых, пересадив голову одного человека к телу другого мы получаем своеобразную новую личность. Между тем, истина такова, что «ни одному из видов живых существ нельзя доверять далее границ его собственных интересов». Многие философы и ученые задаются вопросом – насколько это достижимо? Каковы ожидаемые при этом социальные последствия?
Нужно отметить, что, приложив надлежащее усилие в надлежащей точке, любое разумное сознание может взорваться самым необычным самопониманием. Другая истина гласит о том, что существуют некоторые формы иррациональности, которые, будучи доведены до крайнего выражения, могут стать новыми моделями нормальности. Третья истина утверждает о том, что если моральное зло нельзя избежать, то выбирайте моральное зло, которое можно контролировать. Лучше это, чем эпидемия неконтролируемого морального зверства – такова логика примиренческого подхода [42,48,305].
Общепонятно, что философия – это искусство рационального предположения, она может «развести» вопрос о том, как нужно поступать, если мы хотим найти истину, или же то, что более всего на нее походит, в тех случаях, когда нельзя с уверенностью знать, что есть истина. В вышеуказанном аспекте, искусство рационального предположения весьма полезно в двух различных отношениях: во-первых, часто наиболее трудным этапом в поиске истины является формулирование правдоподобной гипотезы; во-вторых, часто мы вынуждены действовать в условиях неопределенности, а в таких случаях важен вероятный прогноз о возможных последствиях [160,301,306].
Человеческий мозг является на сегодня единственным органом, ещё не подвергавшимся трансплантации, – так что подобная операция с точки зрения логики научно-технического прогресса не просто представляется следующим закономерным шагом, но и в каком-то смысле выражает квинтэссенцию прогресса естественных наук.
Для социологической рефлексии над вопросами пересадки мозга важно пытаться избавиться от воззрений, целиком зависящих от настоящих обстоятельств, условий, окружения, времени, пространства, то есть выполнить своеобразный социально-философский эксперимент, когда путем экстраполяции можно сделать вывод, что любые иррациональные страхи и предрассудки касательно человека, смерти его головного мозга, замены головного мозга, а, следовательно, сознания личности со временем сами рассосутся [57,58,300]. В этом аспекте, философ должен задавать себе вопрос не только о том, какого рода знание менее сомнительно, чем другие, и почему, но и с какой позиции рассматривать проблему.
Именно в этом смысле анализ противоречий во взглядах гуманистов и трансгуманистов не только полезно, но и необходимо. В этой ситуации необходимость симбиоза гуманизма и трансгуманизма очевиден в плане «дозированных» умозаключений и обоснованных выводов философа, решающего вопрос с полярных точек зрения, в случаях, когда возникает необходимость установления вынужденного компромисса [26,52].
Из истории вопроса, изложенной выше ясно, что Франкенштейн, по сути, выкроил, скомпоновал новый организм. Эта история имеет свое продолжение и сегодня и ситуация такова, что нынешние экспериментаторы не намерены ослабить хватку доктора Франкенштейна. Не секрет, что многие современные ученые считают Франкенштейна и его последователей, выдающимися личностями, основателями и движущей силой трансплантационной хирургии.
Между тем, нужно признать, что до сих пор неясно, кого же экспериментаторы получат в итоге? Будет ли при этом создан новый человек или будет оживлен умерший человек? Кто будет обладателем души – владелец тела или владелец головного мозга? Может ли считаться оправданной с медицинской точки зрения такая операция, в результате которой даже при самом успешном её исходе пациент останется парализованным?
Все доводы общества, ученых, социологов и прочих, философ должен рассматривать как приблизительно верные. В этом плане, для философа важно научное знание и научные законы, но не подробности науки, а ее принципиальные результаты, история и в особенности метод научного исследования [148,150]. Если задуматься, то намерения современных Франкенштейнов представляются логическим следствием развития нейрохирургии и трансплантационной хирургии последних лет. Речь идёт о том, чтобы удалить больное тело и дать голове, то есть личности, здоровое – или предположительно здоровое – тело.
Безусловно, человек, который получит новое тело, будет испытывать в обращении с ним огромные трудности, поскольку, как это отмечалось нами выше, наука не научилась пока восстанавливать нарушенную связь между головой и телом. Особенно сложная проблема в том, что пересадка головного мозга от одного другом неизбежно приведёт к проблеме идентификации – кто где?