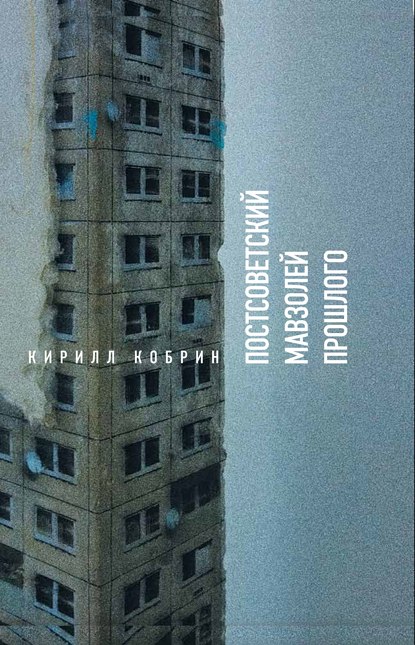Полная версия
Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги
Как бы там ни было, именно после этой поездки в Италию началось влечение Юлии к католичеству и, без сомнения, ее обращение из агностицизма в христианство11. Сестра Мари Тома рассказывает:
«Решающим событием, которому она приписывает свое обращение, была поездка в Рим и аудиенция у папы Пия X. Она приехала в Рим, сопровождая подругу, и с некоторым скептицизмом и насмешкой ждала папской аудиенции. Она ожидала чего-то подобного приемам при Императорском дворе. Напротив, все оказалось совсем просто. Папа, проходя мимо, положил обе руки ей на голову и долго на нее смотрел. После этого взгляда она уже не была такой, как прежде: ее сердце изменилось, она уверовала! Это обращение привело ее к православию и к восточному обряду. Через несколько лет она перейдет в латинский обряд, открыв в его духовенстве самоотверженность и самоотречение»12.
«В поисках за божеством» (Очерки из истории гностицизма), 1913 г
В 1913 г. Юлия Данзас, снова под псевдонимом Юрий Николаев, опубликовала в том же издательстве Суворина большой труд о гностицизме «В поисках за божеством. Очерки из истории гностицизма» – плод пяти или шести лет работы, выполняемой по ночам, после исполнения своих обязанностей при дворе13. В автобиографии 1932 (?) г. она пишет, что эта книга «является русской переработкой защищенной в Париже диссертации о гностике Василиде»14. В своей автобиографии 1919 г. Юлия так объясняет историю написания этой работы:
«В 1897 г. Ю. Н. выступила с первым более обширным печатным трудом – книгой “Запросы мысли“ (2‑е издание СПб., 1908) – и приступила к исследованию истории средневековых западноевропейских христианских сект; труд этот предполагался к изданию на французском языке для соискания ученой степени во Франции, однако остался неоконченным, так как работа над материалом увлекла автора в исследование более древнего христианского сектантства: результатом этой работы была книга „В поисках за божеством (Очерки из истории гностицизма)“, появившаяся на русском языке в СПб. в 1913 г. (под псевдонимом Юрий Николаев, так же, как и первая книга)»15.
Уже в своей первой книге Юлия Данзас проявила хорошее знание гностицизма и несомненную симпатию к мистическим путям познания Бога. Мы видели ее интерес к русским сектам, в частности к секте хлыстов, который помог ей проникнуть в психологию ранних гностических сект (или наоборот). В этой новой книге речь идет об изучении «проникновения эллинизма в христианскую догматику» (Венгеров) путем обозрения всех гностических течений от их зарождения до их осуждения Церковью.
Эпиграфом к работе (527 страниц) служит стих псалма 24 (23): «Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!» Книга состоит из четырех глав (античный мир, раннее христианство, гностицизм, Церковь и гностические идеи) и оканчивается обзором апокрифической литературы, кратким очерком истории библейского канона и хронологической таблицей основных событий истории христианства трех первых веков.
Юлия Данзас опирается на все доступные в ее время первоисточники на латыни и на греческом, а также на работы немецких ученых (Гарнака, Хильгенфельда, Дёллингера и других). Конечно, последующие исследования и открытия превзошли ее работу. Тем не менее Юлия первой в России настолько полно представила панораму гностицизма трех первых веков, и ее книга была переиздана в Киеве в 1995 году. Но эта работа также дает полемическое и личное ви́дение христианства, представляющее огромный интерес для изучения духовного развития Юлии. В этом сочинении отражается, как говорит Юлия в автобиографии, ее эволюция от гностицизма к христианству, к христианству элитистскому и мистическому, не без черт, свойственных гностицизму. И вот эту концепцию христианства мы покажем, чаще всего предоставляя слово самой Ю. Данзас.
Сначала она помещает зарождение христианства в великое интеллектуальное и духовное «брожение», которое переживала Римская империя во времена pax romana: «Никогда мысль человеческая столь неудержимо не предавалась страстным поискам Божества…» (с. 1). До этого ответом на «разврат и разнузданность низших инстинктов, сменившие строгость нравов» прежнего Рима, был стоицизм:
«Стоики доказали, что именно чистейшая мораль возможна без примеси религиозного настроения. Они достигли высшей степени презрения к телу и отречения от всего плотского – и только во имя человеческого достоинства, во имя аристократии духа, не признающей животных потребностей и отрекающейся от низшей природы человека. Не пытаясь объяснить непостижимую связь духа с плотью, они ограничивались высокомерным отрицанием этой связи, утверждая, что сильный дух не может реагировать на плотские ощущения. Быть может, никогда презрение к телу не было выражено с такой силой, как в гордом утверждении стоика, что физическую боль нельзя признать злом! Это презрение не подкреплялось надеждой на будущую жизнь и возмездие; оно основывалось лишь на той брезгливости, с которой истинно духовный человек отстраняет от себя всякое напоминание о своем животном „я“, его потребностях и его страданиях. Быть может, это гордое безнадежное стоическое миросозерцание было самым жгучим протестом против бессмысленности жизни, когда-либо брошенным человеческой мыслью мировой судьбе…» (с. 3).
Но «мир жаждал не одного только нравственного подъема – он искал Бога, он ждал экстаза, он жаждал радостного сознания близости к Божеству, блаженного предведения неведомого, умиленного созерцания непознаваемого. И было ясно, что приспело время восторженной религиозной проповеди, победа которой была обеспечена» (с. 3). Христианство появилось как синтез, как завершение начавшегося на Востоке богоискательства, чьим символом суть являются волхвы.
«Мир воспринял христианство как наследника древних мистерий, как разгадку всех тайн жизни. То, что было достоянием лишь немногих посвященных, раскрылось перед всем человечеством: христианский призыв был обращен не только к немногим мыслителям, но и к широкими массам, впервые призванным к общению с радостью Божественного созерцания» (с. 64).
Юлия Данзас отвергает несколько расхожих идей: религиозный подъем, «который понес по всему миру христианскую проповедь», не был «реакцией разума против несообразностей и умственного убожества языческого политеизма (с. 3–4). Не «Галилейская идиллия» (Вифлеемская пещера, ясли, пастухи) покорила мир и не «учение о посмертном воздаянии за все земные испытания»: христианство завоевало мир этими пророческими словами: «Царство божие внутрь вас есть» (с. 65).
«Отсюда видно, насколько ошибочно и другое мнение – будто успеху христианства способствовала проповедь еврейского монотеизма. Для еврейства Иегова был далеким строгим Судьею, внушавшим страх, но не любовь. „Начало премудрости – страх Господень“16, – говорил Ветхий Завет. Христианство учило о совершенстве любви, „изгоняющей страх“17, – о Божестве, близком озаренному сознанию, о Божественном Свете, отблеском которого горит человеческая душа. Самой характерной чертой христианской проповеди можно считать именно то, что она разнесла по миру новое понятие о Божестве, понятие, весьма близкое к откровениям высшего посвящения, но впервые прозвучавшее радостным кликом над простором человеческой жизни…» (с. 66).
Эллинистический, эзотерический дух христианства был затем вытеснен борьбой с гностицизмом, Иерусалим победил Афины, утвердилась рационалистическая этика. Как и в своей первой книге, Юлия осуждает «еще бóльшую» ошибку – «концепцию христианства как социальной проповеди, по своему духу аналогичной современным утопиям социал-демократов: эта концепция показывает незнание условий и среды, в которой развивалось христианство»:
«В этой среде, где так несложны были жизненные потребности, где, по климатическим условиям, не было острой материальной нужды и поэтому не было и озлобленного сознания неравного распределения материальных благ, – в этой среде, охваченной мировым мистическим брожением, социальная проповедь могла иметь разве только частичный успех, могла вызвать местную вспышку, но всецело овладеть человеческим сознанием она не могла. Мир ждал не социальных реформ, a религиозного подъема. И только в наше время, с его неслыханным культом капитала, с его жестокой борьбой классов и назревшими общественными вопросами, могло возникнуть предположение, будто великое религиозное движение, создавшее христианство, могло разгореться на почве социальных учений. Девятнадцать веков тому назад человечество ждало не общественного переустройства, а живого слова, разрешающего тоску Богоискательства, – и покорило его восторженное учение о Царствии Божием „не от мира сего“. Столь же ошибочно и другое современное мнение о первобытном христианстве, навязывающее ему особое значение моральной проповеди, направленной исключительно к поднятию нравственного уровня человечества. И этот взгляд вытекает из современного понятия о религии, совершенно чуждого мистики и истинного понимания религиозных запросов! […] Как ни велик подвиг братской любви – выше его подвиг духовного совершенствования, одухотворяющий целые поколения, облагораживающий все человеческое сознание. Как ни велика заслуга того, кто утер слезу ближнего, выше его стоит тот, кто вещим словом отрывает людей от всяких материальных забот и ведет их за собой к неземным идеалам» (с. 67–68).
Этот отказ сводить христианство к морали уже был четко выражен в «Запросах мысли». Тем не менее при всем своем стремлении к мистическому «озарению» Юлия руководила благотворительностью императрицы, а когда началась война, стала заведующей складом Красного Креста и служила в казачьем отряде.
Исследование Юлии Данзас отражает ее духовный путь – от стоицизма к христианству через гнозис (высшее эзотерическое знание), понятый как мистические поиски Божества, от которого христианство отдалилось из‑за своей демократизации и возведения в ранг официальной религии (эдикт Феодосия, 380 г.), но которое монашество сохранило в «идеале созерцателя-аскета» (с. 429):
«Церковь обратила свой призыв к широким массам народным, и они пришли к ней, ища утешения и поддержки в жизненной борьбе, – но внесли с собою житейские интересы, которым не должно было быть места внутри священной ограды. И церковная святыня, раскрывшаяся перед непосвященными, не могла даже удовлетворить их запросов и грубых вожделений толпы: у подножия алтарей остались разбитые души, ищущие утешения, но от них отошли искатели счастья, борцы за земные идеалы. В этом явлении – оправдание гностиков и их брезгливого отношения к толпе, их нежелания раскрывать тайны Откровения Христова не только перед тупой массой людей материальных, но даже перед людьми психическими, уже познавшими стремление к Божественной Правде. Лишь пневматики, стоящие у преддверия Царства Духа, могли вместить учение о Божественном озарении, исключающем всякую мысль о личном удовлетворении даже при слиянии с Божеством, ибо это слияние возможно только вне граней индивидуальности, оно возможно не для каждого человеческого сознания в отдельности, а для всей Духовной Сущности, заключенной в материальном мире и возвращающейся, наконец, к своему Источнику» (с. 372–373).
Для Юлии протестантизм был завершением этой адаптации христианства для народа, его «популяризации», как она уже писала в своей первой книге:
«Церковь сама шла навстречу этим запросам неподготовленной толпы; в угоду ей она вступила на путь рационализма, приложила все старания к изложению своих догматов в общедоступной форме, силилась привлечь всех своих чад к уразумению неизреченных тайн Божественного Откровения. Эти стремления к популяризации христианства принесли горькие плоды впоследствии, когда рационализм овладел христианским мышлением и подготовил десять веков спустя крушение престижа самой Церкви, когда Реформация на Западе провозгласила принцип полной свободы толкования догмата и каждый полуграмотный тупица почел себя вправе изъяснять смысл христианского учения. Опошленное, рассудочное христианство протестантских сект, лишенное всякого признака религиозно-философского мистицизма, сведенное к роли сухого морального учения и подчиненное требованиям „здравого смысла“, действительно далеко ушло от христианства Иоанна или Оригена, от величавых созерцаний, едва доступных на высочайших вершинах человеческого мышления! […] Кроткий облик Спасителя сияет по-прежнему над христианским миром, но лишь как вечно ободряющий призыв к утешению для слабых и несчастных; человечество несет к алтарям Христа свои скорби и смутные надежды, но христианство, точно забыло, что оно было призвано быть религией сильных духом, заветной целью искателей вечной Истины, а не милосердным словом для обездоленных и для тех, кого приводит к подножию алтарей страх перед смертью или желание „помолиться за дорогих усопших“. И самый облик Божественного Учителя сохранил свою неотразимую силу и обаяние лишь в человечности Иисуса Христа, в тайне Его страданий. Род людской отвык от созерцания непостижимых тайн Божества и приучился только умиляться перед излиянием Христовой крови, перед язвами на святом теле Христовом. В этом подчеркивании страданья в спасительной миссии Сына Божьего кроется немощь мышления, неспособного парить у вершин Божественного созерцания18; сияние Божественного Света почти недоступно человечеству, ищущему у алтарей Христа не радость духовного озарения, a подкрепление в жизненной борьбе. Для толпы христианство стало религией только Распятого Господа, а не Воскресшего и Присносущного» (с. 430–432).
Для Юлии христианство не является ни нравственной, ни социальной проповедью, ни религией страдания, но прежде всего – мистикой, учением эзотерическим и элитистским, аристократическим (предназначенным для «сильных духом»). Поэтому Юлии всегда будет трудно «слиться» с любым объединением людей, будь то царский двор или монастырская община. Совсем не считая гностицизм философско-религиозным рационализмом, Юлия находит в нем духовный подход к «мистическому Познанию Бога», к чему христианство потеряло вкус. Гностицизм – это «сказочный, волшебный лес, из которого зачарованный путник не может найти выхода, а найдя его, вечно озирается назад с тоской» (с. 373). В заключение Юлия пишет:
«Быть может, старый суровый приговор Церкви над гностическими созерцаниями будет пересмотрен… Сам Христос благословил „алчущих и жаждущих правды“, и в этих дивных словах – истинно Божественное понимание всех неутолимых духовных потребностей человечества и истинный смысл и оправдание всех блужданий мысли, всей тоски по недосягаемым идеалам, всех мучительных поисков за Божеством» (с. 433).
По словам итальянского автора предисловия к «L’Imperatrice tragica», книга получила премию Академии наук Санкт-Петербурга в 1913 году. Мы не нашли упоминания об этом, и это представляется сомнительным, учитывая женоненавистническую реакцию Академии, о которой Юлия сообщает в «Наедине с собой»*, где она обращается к своему двойнику: «Помнишь ли ты, с какой завистью была воспринята моя книга о гностицизме, когда был раскрыт мой псевдоним? Помнишь ли ты дебаты на эту тему в Академии наук после сообщения Ольденбурга?»19
Отзыв на книгу появился в выходившем в Петрограде «Вестнике теософии», органе Российского общества теософии А. Безант; члены этого общества сохраняли свободу совести. Отзыв был подписан М. Г.: предположительно за этими инициалами скрывается Мария Федоровна Гарденина, родившаяся в 1880 г., – бывшая студентка-большевичка, которая вела рубрику библиографии:
«Книга эта представляет из себя ценный труд по истории первых трех веков христианства. Написана она христианином ортодоксальной точки зрения, но отличается широкой терпимостью истинно образованного человека. Большая эрудиция автора, знание им обширной литературы предмета, строго научное отношение к источникам местами своеобразно сочетаются в нем с глубоким интуитивным прозрением, например, в страницах, посвященных древним символам воды, огня, чаши, креста и т. п. […] Победу над гностицизмом господствующей церкви автор приписывает упрочению иерархического начала, опиравшегося на „мнение улицы“. В результате это дало „горькие плоды“ в развитии рационализма и „подготовило к крушению престижа самой церкви, когда реформация на Западе провозгласила принцип свободы толкования догмата и каждый полуграмотный тупица почел себя вправе пояснить смысл христианского учения“. […] [Автор] восстает против „рассудочного христианства, сведенного в роли сухого морального учения“ и против христианства, „сохранившего облик Божественного Учителя лишь в человечности Иисуса Христа и в тайне Его страдания“»20.
Также можно найти отклик на книгу Юлии Данзас у Сергея Сыромятникова (1864–1933) – писателя и журналиста, друга Владимира Соловьёва. На вопрос, кто автор книги, заданный, вероятно, Эрнестом Радловым (1854–1928), специалистом по истории философии, который в 1918–1924 гг. станет директором Публичной библиотеки Петрограда, где будет работать Юлия, Сыромятников отвечает:
«Юрий Николаев есть Юлия Николаевна Данзас, фрейлина Императрицы Александры Федоровны, заведующая ее благотворительностью, si licet dicero – la grande aumônière. Книгу ее я читаю, по-моему, у нее отношение к гностикам внешнее, историко-литературное. Одна песня офитов Соловьёва дает больше, чем ее, впрочем, полезная у нас, книга»21.
А в другом письме к Радлову Сыромятников пишет:
«Прочитайте статью мою о книге Данзас-Николаева, которая появится завтра. Книга эта – наивный исторический фундамент под Гришку Распутина. […] Очень интересно, что г-жа Николаев нигде не упоминает о Соловьёве, хотя он кое-что написал о гностиках22 и во всяком случае более серьезно, с бóльшим знанием дела, чем она. И разве можно во всех сочинениях гностиков найти что-либо подобное повести об Антихристе23, повести столь великой, как и повесть о великом инквизиторе Достоевского.
Чем больше я учусь, тем глубже принимаю чудо Христа и тем больше жалею евреев. Впрочем, святой ирландец Брандан жалел даже Иуду»24.
И действительно, Юлия Данзас не ощущала близости к Соловьёву. Согласно Бурману:
«Никто из русских мыслителей, подходивших в это время с разных сторон к проблемам, поставленным древними гностиками, не оказал на нее никакого влияния. Это можно сказать так же о Владимире Соловьёве, с которым Юлия Николаевна однажды встретилась совсем молодой, лет двадцати, хотя, казалось бы, она во многом приближалась к его миропониманию. В теократической концепции Соловьёва ей чувствовался какой-то утилитаризм и влияние на него пантеизма еще до того, как она разобралась в пантеистической основе его философии уже научно25. Кроме того, она почувствовала в этом пантеизме налет эротизма раньше, чем сумела сама себе его определить и оформить. Двойственность Соловьёва она чувствовала до болезненности ярко»26.
Статья, на которую ссылается Сыромятников, вышла в газете «Россия» 24 ноября 1913 г. под заголовком «В поисках за светом». Автор находит книгу интересной, но призывает к серьезной богословской критике, чтобы «отделить зерна от плевел»: тут не хватает исторического измерения, и сама концепция Данзас, по которой гностицизм оказывается эллинистическим продуктом, ошибочна. По Сыромятникову, гностицизм зародился в Азии (что Данзас тоже отмечает).
В своей автобиографии 1920 г. (для словаря Венгерова) Юлия писала, что «в религиозных журналах книгу приняли неодобрительно, даже осыпали оскорблениями, автора обвинили в ереси и даже во франкмасонстве (!). Книга пользовалась успехом, тираж был раскуплен в течение двух лет, несмотря на разразившуюся войну».
«В поисках за божеством» была для Алексея Ремизова, чье творчество навеяно апокрифами, «настольной книгой» при написании апокалиптического романа «Плачужная канава»27.
В 1916 г. Н. Бердяев упомянул книгу Ю. Николаева в «Смысле творчества» – в первом примечании к XIII главе «Творчество и мистика. Оккультизм и магия»: «Посмотрите на интересную книгу Ю. Николаева. В ней неплохо описана борьба внутри христианства между духом иудаизма и гностицизмом с большой симпатией к гностицизму».
В экземпляре «Поисков за божеством», хранящемся в личной библиотеке Горького28 в его музее в Москве, есть пометы (всего 86) писателя, который вступится в 1920‑м и в 1932‑м за Юлию Данзас и который в 1928–1930 гг. выведет в третьем томе «Жизни Клима Самгина» прекрасную хлыстовку-гностика29. Среди прочих Горький подчеркивает такую фразу на странице 400: «Гностики настаивали на том, что христианство должно быть религией сильных, а не слабых, гордых Богоискателей, а не смиренников, алчущих Истины, а не малодушных». Это своего рода христианское ницшеанство, и известно влияние Ницше на Горького30. Он тоже подчеркивает следующую фразу: «…мы видим еще женщин в руководящей роли предстоятельниц общин» (с. 391). Напротив, он отвергает утверждение Юлии на странице 67, что «мир ждал не социальных реформ, а религиозного подъема»: «А рабство? А вопрос аграрный? А плебс римский? Борьба демократии с аристократией?» – вопрошает он на полях. Это единственное полемическое замечание.
Книга Юлии Данзас идеально вписывается в философско-религиозное возрождение Серебряного века, подготовленное синкретизмом Владимира Соловьёва: философию (Николай Бердяев) и богословие (Павел Флоренский, Сергей Булгаков) пронизывают гностицизм, теософия с Рудольфом Штейнером и Еленой Блаватской, мистика (Бёме), античные таинства (Вячеслав Иванов, который тоже перейдет в католичество; Дмитрий Мережковский).
В декабре 1913 г., листая свою книгу, Юлия внезапно осознает, что духовно ее переросла; светская жизнь ей опостылела, она мечтает об одиночестве, заполненном исследованиями и медитацией, наподобие жизни средневековых ученых монахов. В январе 1914 г. она приезжает в Зосимову пустынь – маленький монастырь недалеко от Троице-Сергиевой лавры – вместе с Митрофаном Васильевичем Лодыженским (1852–1917), высокопоставленным чиновником, членом Русского общества теософии, другом Л. Толстого; Лодыженский разработал некий философско-религиозно-мистический синтез, прежде чем вернуться в православие, которое он противопоставлял католицизму, хотя с последним был знаком плохо.
Юлия, не испытывавшая никакого религиозного рвения, была поражена, услышав после чисто формальной исповеди, что старец монастыря Алексий31 ей предсказывает «кровавый путь»: «Ты вся в крови, с головы до ног, но это не твоя кровь, ты защищена… Это будет тяжко, о как тяжко! Держись, будет много испытаний, путь труден, кровавый путь. Господь тебя поддержит…» Юлия, которая вместе с Пифагором и Платоном еще верила в переселение душ, думала, что это могло относиться к одному из ее предыдущих существований…
В 1913 г. в письме к С. Сыромятникову М. Лодыженский писал:
«Юлию Николаевну я знаю и книгу ее непременно прочту. Меня интересуют Манихеи, как они согласовывали Зороастра с Христом, интересует как дьявольщина. Книгу я еще не покупал; рассчитываю, что Юлия Николаевна мне пришлет ее. Сама Юлия Николаевна – женщина интересная действительно, но не без гордости, и много ей придется переиспытать [?] и познать, пока гордость эта в ней не перегорит. Но перегореть она должна, ибо инстинкт к добру у нее сильный»32.
«Наедине с собой». Неизданный дневник
Начиная с 1914 г. Юлия ведет дневник, или, точнее, тетрадь размышлений, хранящуюся в архивах ИРЛИ, которого никогда никто не цитировал. Речь идет о переплетенной тетради из 122 страниц большого формата, примерно 40 × 20 см, которую она вела до 1922 года33. Дневник озаглавлен «Наедине с собой», на обложке стоит имя «Юрий Николаев». В нем собраны мысли Юлии о религии и положении дел в России. Этот дневник бесценен для понимания ее эволюции к католическому монашеству, ее отношения к Православной церкви, к вопросам, что она себе задавала, к ее сомнениям. Дневник делится на главы по темам: тяга к смерти, мистика, критика современной Церкви, которая, соблазнившись рационализмом и верой в прогресс, ограничивает свои дела благотворительностью, сводит проповеди к утверждению нравственности и утратила мистический смысл.
В заглавии стоят три эпиграфа: один из «Заратустры»34, другой («Volere aude!») перекликается с высказыванием Канта35, а третий является цитатой из псалма XLI: «Ко мне самому душа моя смятеся…»
Юлия следует за Марком Аврелием, автором «Рассуждений о самом себе» – сочинения, переведенного заново на русский язык в 1914 г. под тем же названием «Наедине с собой»36: «Я живу в полном нравственном одиночестве, и античные мыслители – мои единственные близкие друзья. Ergo – почему же мне не последовать их примеру и не заняться записыванием размышлений, обращенных „к самому себе“, как некогда божественный цезарь Марк Аврелий?»37 (с. 2). Но речь пойдет не о моральных максимах и не о житейских советах:
«Да и что может быть сказано в этом роде лучшего и высшего, чем заветы святых отцов и подвижников Церкви или сентенции Эпиктета и других великих стоиков? […] Но главное, нет у меня охоты разбираться в вопросе: как следует жить? С юных лет тревожит меня вопрос: что такое жизнь? И никакие моральные предписания не дают на него ответа. Вечная загадка жизни и смерти неотступно преследует мое сознание и увлекает за собой в такие туманные дали, где, пожалуй, идея смерти становится ближе и дороже вопроса о сущности жизни»38.