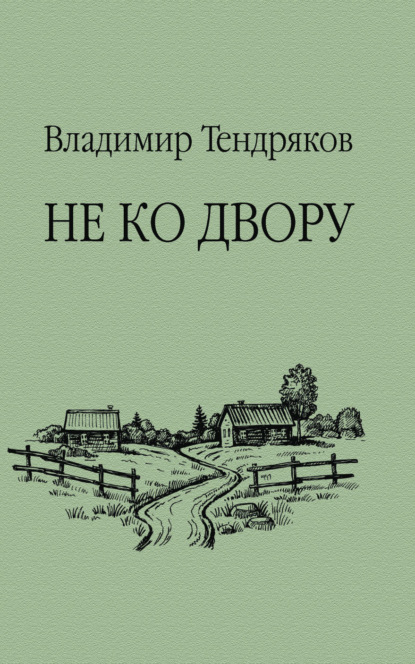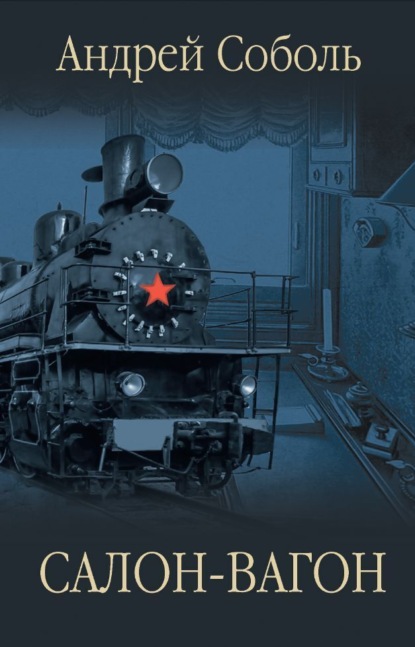Полная версия
Ворон
Она говорила как человек, имеющий в своих руках всю власть, говорит другому, зависящему от него всецело.
– Я не люблю отступать от задуманного, – возразил я с твердостью. – Надо привести в ясность урожай с твоей Пустоши и, если окажется недохват, поторопиться с продажей, чтобы нам хватило жить на два дома.
Жена встала. Со свойственным ей тактом, уже не подходя ко мне, а направляя шаг к двери, остановилась.
– Милый мой, раз навсегда… я не желаю что-либо продавать, считая своим долгом передать в наш род все угодья в том виде, как их получила сама.
Она очень естественно вышла. Мое бешенство не имело границ. Лишенный своей части в наследстве отца, я был теперь нищим. Между тем в расчете на средства я порвал с академией и уже избаловался роскошью. Но что же мне предстояло теперь? Смотреть из рук женщины в награду за то, что я, как в экономиях жеребцы, выбран ею на завод? Ее упоминанием о детях уже во множественном числе гнусно подчеркивалась эта моя роль специального производителя.
Характер у Марьи Юрьевны оказался твердый, с дьявольской выдержкой. Все женственно-милое, что раньше она выдвигала приманкой, с беременностью отошло.
Теперь предо мною стоял равносильный боец, с тем преимуществом, что он был вооружен, а я нет. Мне оставалось превзойти ее хитростью, на что я и пошел. Еще сам хорошенько не зная конечной своей цели, усилием воли скрывая злобу, я необыкновенным вниманием к ее положению восстановил поколебленное было доверие.
Но вот жена моя заболела, домашний врач настоял на осмотре ее знаменитостью. Тот объявил, что роды жене моей будут смертельны вследствие каких-то больших уклонений, и предложил произвести их искусственно и преждевременно. Жена, охваченная психозом материнства, не хотела и слышать об операции, где наверное спасалась только она, тем более что другая знаменитость города, враждебная первой, сумела убедить ее в благоприятном исходе, с сохранением жизни доношенному ребенку.
Почти без усилий мне удалось расположить жену к себе в такой мере, что она написала духовное завещание, где все имущество оставляла ребенку, делая меня его пожизненным опекуном. Через несколько дней, в минуту особенно горьких предчувствий, она прибавила и роковую последнюю строчку: «В случае смерти ребенка наследником всего движимого и недвижимого является мой муж…»
Как это ни удивительно, мысль добыть яд зародилась у меня впервые тогда, в Николин день, на именинах у Гоголя.
Тот заряд энергии, тот зов к свободе, который большой поэт заключил в алмазный стих «Мцыри», коснувшись меня, сосуда грубейшего, лишенного музыкального строя души, явился толчком лишь на то, чтобы разрядиться в преступлении.
Я мало жил, и жил в плену…До боли острая, стрелой пронзающая жажда свободы, до потемнения в глазах и мозгу… О, почему Гоголь не понял меня!
Но он не понял. И вот одно имя, как вспыхнувшие тогда в темноте именинные шкалики, одно имя огнем в черном мраке души:
Амичис ди Гамма!
Я боролся два дня, на третий пошел. Амичис был просто Андрей Иванович Гамов, брат одного нашего ученика, влюбленный в эпоху Возрождения. Он был фармацевт, занимался химией и алхимией, имел слабость к сбиранию ядов. Я заставил его показать себе коллекцию им добытых. Наметив подходящий, я решил принести схожий по виду и цвету флакон – подменить.
Для поддержания в себе того разрывающего душу чувства свободы, без которого, раз вкусив его, я не хотел больше жить, – мне стал нужен яд. Пока без определенной цели, на всякий случай. Конечно, виной тому были книги… Да, книги были моя жизнь и погибель. Роман Шодерло де Лакло «Les liaisons dangereuses»[2], дьявольски подсунутый мне отцом, в его увлечении психологическим экспериментом, оказался для меня роковым развратителем. Ведь первая ударившая по сердцу книга – что первая любовь. Это призма, через которую впоследствии преломится бессознательно все мироощущение человека. В этом романе предвосхищены и «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени». Де Вальмон взят автором заостреннее и с тем окончательным цинизмом, который про себя держит каждый свободный ум, не знающий иных авторитетов, кроме собственной воли…
Однако я обладал немалой силой внушения: Амичис, подстрекаемый моими хвалами, показал мне заветнейшие коллекции, особливо гордясь некиим флаконом… «флаконом Борджиа», без следа и без боли усыпляющим навсегда.
Мне блестяще удалось подменить эту унику. Я был как хороший актер в ответственной роли, и все же достаточно трезв, чтобы отмечать свои настроения. Меня, помню, очень тогда поразило, что чрезмерное напряжение, чем бы ни было оно вызвано, дает одинаковое сознание мощи и радости. Тогда же я сделал, быть может, опрометчивый вывод о прирожденной аморальности человека.
У Лермонтова, Пушкина, Шодерло де Лакло герой богат, образован и убивает других: пулей, игрой, насмешливым словом, так себе – с жиру. И все же читатель подобным героем любуется. Почему же, думалось мне, почему, усвоив себе всю психологию этого образа, не убить мне из жажды свободы и просвещения? Я нашел, что моя цель благороднее. К тому же при моем напряженном вкусе к благам интеллектуальным, все, что носит печать только жизни инстинктов и рода, у меня, как у брамина вид парии, вызывает одну лишь брезгливую отчужденность.
Моя жена донашивала последний месяц. С лица ее не сходило выражение самодовольства. Она была окончательно уверена в благополучном конце. Приданое шилось двумя партиями: на случай рождения девочки – с розовым бантом, и мальчика – с голубым.
Поглощенная своим материнством, жена как человека перестала окончательно меня замечать. Она требовала только восторгов при виде пеленок, свивальников и каких-то гнусных подгузников.
Что касается похищенного мною «флакона Борджиа», я, признаться, не слишком-то доверял, что он усыпит навсегда и без муки, так что, когда я его всыпал жене, мое воображение не было поражено неизбежностью смерти и «макбетовский трепет» мне не пришлось испытать. Я почти мальчишески играл в «чет и нечет». Впрочем, как холодный и умный герой, я на всякий случай наметил себе в бессознательные союзники доктора Радина, очень слабого, неуверенного в себе человека, в определении болезни поддававшегося диагнозу о себе самого больного и близких ему.
Неделю тому назад, когда у меня уже был в кармане яд Амичиса, я зазвал к себе доктора Радина и долго наставлял его относительно слабого сердца моей жены, ссылался на определение знаменитостей, приводил и свои опасения, основанные на внезапной гибели от разрыва сердца ее сестры.
Радин удостоверил при некоторых знакомых все, чего мне хотелось. Прописал порошки и обещал заходить ежедневно. Давая порошки доктора Радина, я к ним прибавил и свой.
Наутро жена моя была мертва.
Радин, видя мое сильное расстройство, растерянно, как виновный, меня успокаивал. Родня жены была далеко. Подозрений я не возбудил. Жену похоронили. Впрочем, нет, подозрения были у одного существа. У ребенка двенадцати лет. Это была сестра моей жены, которая жила по сиротству вместе с нами.
Галина, или, как уменьшительно ее звали, Гуль, была неприятная девочка. Смуглая, с румянцем, вдруг загоравшимся, обличавшим потаенную страстность, Гуль каким-то угрюмым, безмолвным добавлением входила в нашу жизнь. Порой мне казалось, что она очень несчастна. Но я был слишком занят собой и не мог войти в жизнь существа, которое меня к себе ничем не влекло. Совсем напротив: меня крайне раздражали ее недетские, следившие за мною взоры. Нередко я перехватывал ее, выбегавшую из моей комнаты.
В тот день, как я всыпал жене содержимое «флакона Борджиа», я, вернувшись тотчас к себе, стал искать пустой пузырек, только что бывший в моих руках. Пузырька не оказалось.
Вне себя от ужаса, я кинулся с допросами к Гуль. Добиться признания ни страхом, ни лаской мне не удалось. Дня через два, потрясенная смертью сестры и жестокостью моих тайных допросов, она заболела нервной болезнью. По выздоровлении я заметил, что несчастная девочка безумно в меня влюблена, и успокоился на естественном предположении, что пустой «флакон Борджиа» был взят ею на память и давно, быть может, затерян. Во всяком случае опасностью разоблачения эта выходка мне не грозила.
Прошло полгода. Мое положение огорченного, от всех удалившегося мужа было упрочено. Скоро я сам отвез Гуль в пансион, пересмотрев на всякий случай очень тщательно все ее вещи. Среди них флакона не было…»
Багрецов закрыл тетрадь, спрятал ее в двойное дно шкатулки. Шкатулку запер дважды ключом и снес в шкаф.
Конечно, Багрецов угадал, едва Пашка-химик доплел свою сплетню, что женщина, замышлявшая маскарадный костюм – «флакон Борджиа», была Гуль.
Глава II
Остерия Лепре
Если вы любите искусство, то хоть пешком, но будьте в Риме.
С. ГольдбергНа длинных скамьях в остерии Лепре было набито немало народу. Русские pittori[3], длинноволосые, с бородкой, в черных плащах, подбитых алым, скульпторы и даже овербековцы в своих чопорных черных сюртуках.
Они с любимым учителем, «папашей Овербеком», жили для настроения в католическом монастыре и в пирушках не участвовали. Были здесь разного чина и звания иностранцы, жадные до разнообразия итальянской кухни и римских сплетен.
За суматохой гости и не замечали, что кушанья те же самые, а меняются лишь приправы; что престарелая курица, сдобренная специей и начинками до неузнаваемости, идет за птицу высшего ранга, в чем не уставал, впрочем, заверять servittore[4], ловко скидывая по две нагретых тарелки с каждой руки и поспевая принять в настороженные уши десять разных заказов risotto[5], узнать альковную тайну знатной римлянки, перехватить последние слухи о планах «Юной Италии».
Голоса прерывали друг друга, ножи стучали, споры велись через головы, с разных концов стола, без возможности спорящим в страшной давке сесть ближе.
Своим нескрываемым восхищением выдавались лица молодых, только что приехавших из Петербурга пенсионеров. Забитые академической дрессировкой, они уже заметно ожили, как недоморенные цветы, обласканные жарким солнцем. Вместе с серебряным воздухом Италии их пьянила дивная красота акведуков, портиков, базилик – словом, все, что давно знали они по сухой выучке, и потрясены были, увидав здесь во всей волшебной действительности. Они были как восторженный юноша, очарованный заочно красавицей, внезапно узнающий ее живую.
Старшие товарищи взапуски посвящали молодых в подноготную заметных римлян и героев дня. Поминали и прошлое. Не переставал волновать всех «великий Карл», с его никем еще не покрытым успехом «Последнего дня Помпеи».
Не без зависти всю удачу замысла приписывали влиянию некоей девицы Дюмулен, причем влиянию, выраженному в форме необычайной. Новоприбывшему всю историю начинали ab ovo[6], с самого Сильвестра Щедрина.
Этим славным пейзажистом русские художники гордились особенно, а красотой выдвигали его первым против красавца римского исторического живописца Каммучини. Уезжая в Сорренто, Щедрин передал (таковы были нравы) свою временную подругу пресловутому Карлу Брюллову, прожигавшему свой гений в разнообразнейших похождениях и хотя блестящей, но разбросанной живописи.
Как водится, девица Дюмулен весьма скоро опротивела Карлу ревностью, и он стал от нее отдаляться; но в то же время, со свойственным ему озорством, не удержался, чтоб не подразнить ее. Живя напротив, окно в окно, он устраивал нежнейшие амурные сцены с манекеном, бесподобно загримированным женщиной. Девица Дюмулен посылала отчаянные письма, которые Брюллов позабывал прочесть, и, наконец, отчаявшись в просимом свидании, бросилась в воду с ponte Molle. Ее спасли. Брюллов пуще затосковал от внутренней пустоты, завертелся в попойках. Графиня Самойлова, ценя его живопись и желая его образумить, увезла с собой в Неаполь. Угрызаемый раскаянием за беспутную трату сил, в расположении к сюжету грусти, Брюллов полюбил Помпею и, бродя по мертвому городу, вдохновился его «последним днем».
Из этого мораль, учили бывалые молодых: обзаводись скорей девицей да топи ее в Тибре, авось выудишь себе пышный сюжет.
– Dio vuol carnavale, е non vuol cardinale![7] – вдруг крикнули в углу. – В праздник кардиналов хлестало как из ведра, а в карнавал всегда чудесная погода!
– Ставлю две фульты, – кто со мной? «Русалка» Моллера как раз будет в меру картины Лапченко.
– А ну пройдем к обеим, померяем…
– Да что далеко ходить, вон синьор Александро со своим ментором. Он наизусть знает.
Спорившие, брыкая товарищей, выбрались из-за скамьи и подбежали к входившему мелкими шажками невысокому плотному человеку в синих очках. Занятый разговором со своим спутником, забиравшим место у раскрытого окошка, он не сразу понял вопрос, с которым на него наскочили молодцы.
Лицо его, славянского облика, несколько иконного письма, изобразило внезапное беспокойство. Но тут же, разобрав причину напора юношей, он вдруг засмеялся, детски приоткрывая приятный рот, обрамленный окладистой русой бородкой, и сказал, слегка пришепетывая и торопясь:
– Ну, конечно, «Русалка» Моллера аккурат в меру «Сусанны» Лапченко и, как и она, вся нагая-с. Но полезно нам узнать, интересуясь Моллером, и всю силу его трудолюбия, – ведь им уже отосланы в Петербург «Пастушка», «Поцелуй» и «Профиль»…
– Собственноручной возлюбленной, знаем!
Повесы захохотали и, оборвав на полуслове, так же дико, как появились, убежали на свои места.
– Ей-богу, наплюйте на них, да садитесь, все простынет… – сказал спутник Иванову, так низко склонившись над своей тарелкой, что темно-русые волосы, очень длинные, упали у него на кушанье.
– Совершенно оголтелый народ-с эти молодые пенсионеры, – оказал Иванов, – мало кто работает, а в академию отписываться умеют похитрей нас, стариков. Один лодырь вчера мне показывал, сплошное вранье-с, а к начальству с этакой патокой… Оно и то сказать, преподлая нас сопровождает инструкция, на лицемерство сама наталкивает. Вот если любопытствуете, Николай Васильич, для картины нравов, я вам ее наизусть…
Спутник с длинными русыми волосами, усердно подбиравший с тарелки risotto, поднял острые глаза и, не слушая, сказал:
– А знаете ли, у Фальконе, что у Пантеона, жареный баран поспорит с кавказским, телятина много жирней, и такая, черт ее дери, crustata из вишен, что производит слюнотечение на три дня. У Фальконе, что у Пантеона, бес ему в рифму… Едали?
– Гоголь в духе, будет представление, – зашептали кругом. Иные бросили свои места и подсели ближе к окну. К столу подошел человек, невысокий, с большим лбом. Лицо твердое, честного немецкого колониста, сразу обличало нерусское его происхождение. Верхняя губа была длинновата, отчего выражение лица, когда он молчал, было неумно. Он одернул бархатный жилет с искрой и сказал медлительно:
– Что за диво Фальконе? Вот я намедни так в дрянном трактирчике был свидетелем жанра, достойного вас, Николай Васильевич, бытописателя нашего именитого.
– А нуте, Федор Антоныч, нуте…
Гоголь оживился, заулыбался, помолодел лицом.
– Вчера засиделся я в театре, вышел последним, ищу, где бы закусить. В нашем трактирчике свет. Вхожу. Только у русского стола лампа. За столом Рязанов с батареей полуфульт. В руке стаканчик красного. Любуется им на свет… Этакая поза! А пьян вдребезги. «Ортодокс, – кричит мне как резаный, – посмей сказать, что есть чудеснее ко́лер!»
Иванов залился хохотом, так, что прыгали щеки, колыхалось брюшко, а пальцы, пухлые и короткие, теребили в восторге салфетку. Гоголь молча вынул салфетку у него из рук и отложил в сторону. Иванов этого не заметил и, продолжая перебирать пальцами в воздухе, все еще прерываясь хохотом, сказал:
– А ведь это Иордан не врет! Рязанов точь-в-точь. Шутка ли – батарея полуфульт. А если, боже упаси, ему сервитторе надумает поднести сразу хоть одну целую, – какова обида! «Я, крикнет, тебе не пьяница, чтобы дуть по целой фульте». Помнишь, Федор Антоныч, мы с тобой слыхали? Еще он по-свойски тебя обложил, когда ты рассмеялся.
– Это было… сейчас я скажу когда. – Обстоятельный Иордан, припоминая, водил по-заячьи длинной губой. – Есть! В тот самый день, когда в кафе «Del buon Gusto» ты, наконец, мне объявил, что порешил написать свою картину больше размером, нежели «Медный змий» Бруни, а я тебе сказал – большая картина будет занимать много места!
Иордан самодовольно расхохотался. Гоголь бочком глянул на него. Лицо его сморщилось, стало важным и умильным.
– Совершенно справедливо, необыкновенно справедливо, в высшей мере справедливо, маленькая вещь занимает небольшое место, а большая вещь место занимает больше.
Все вмиг узнали, кого Гоголь изобразил; грянули аплодисменты.
– Попугай святой коллегии, il pappagallo del santo collegio.
Это был живой кардинал Маццофанти, всем известный старичок-полиглот, любивший щеголять своим знанием русского языка вплоть до стихотворения, начинавшегося так:
Люблю российских муз,Я голос их внимаю.И некие слова ихЧасто повторяю….Гоголь мастерски обличал секрет плавной русской речи маленького кардинала. Видно было, как он, твердо заучив немногие фразы, поворачивал одно и то же, слегка переставляя слова. Впечатление при итальянской, стучащей, быстрой манере говорить получалось как от беглого и богатого разговора.
Между тем Иванов прервал смех и стал грустен. Он сказал Иордану:
– Ну что с тебя взять, Федор Антоныч! Ведь вот и Жуковский не стыдясь говорит про картину. Мне Чижов передал. Порицает размер: кому, говорит, продать да куда повесить? Будто и сам я не знаю, что для коммерции много выгодней писать вещицы да картинки жанра. Но не все же коммерция!
Высокий человек, до того безмолвно сидевший напротив, прервал речь Иванова:
– А ты, Александр Андреевич, так и не сказал текста инструкции пенсионерам, который было припомнил. Мне б особливо интересно его услыхать, – ведь я здесь не от Академии, а, как ты знаешь, на собственный счет. Любопытствую, чего я столь счастливо избежал?
Гоголь быстро и недовольно окинул говорившего. Это был человек с очень бледным лицом, богато и скромно одетый. Лицо его почти могло быть красивым, но все же не было. И каждого тянуло выяснить тому причину. Приятны были волосы того тусклого тона, который зовется пепельным, прекрасен лоб. Но глаза, спокойно и умно глядевшие, были странно мертвы. Ничто не заставляло их вспыхивать и меняться. Тонкий рот, бледные губы и эти глаза носили печать какого-то остановившегося существования, оторванного от общей жизни.
Багрецов знал, что люди при постоянном с ним общении, несмотря на его вежливость и приятную с ними манеру, чем-то в нем оскорблялись и скоро отходили навсегда. Впрочем, в редких случаях, когда ему надо было их удержать, он пускал в ход разнообразное очарование своего граненного скептицизмом ума.
Но Александру Иванову Багрецов, старый приятель по Академии, сумел стать исключительно нужным человеком благодаря знанию языков. Он усердно переводил ему все труды по искусству и философии. Сейчас Багрецов затеял разговор в надежде втянуть в него Гоголя или по крайней мере обратить на себя его внимание.
– Итак, если тебя не затрудняет, скажи, Александр Андреич, пресловутую инструкцию.
– Она преподлая-с, и, признаться, я ее желал бы забыть… Но изволь, изволь!
«Не скрывайте ваших чувствований и мнений ни о чем. В начальстве вы имеете людей, имеющих способ быть вашими благодетелями. Надобно это чувствовать, быть признательну, а потому откровенну».
– Поначалу, признаюсь, бывало невыносимо. Я забываюсь в созерцании красот искусства, но внезапно вспоминаю, что приказано о сем восхищении оповещать в известные сроки с непременною благодарностью – и все благородное во мне замирает. Ох, тяжко быть нищим художником, Николай Васильич!
Гоголь не желал замечать Багрецова, ни отвечать на взволнованный тон Иванова. У него будто было собственное внутреннее раздражение, которое то замирало, то возрастало.
– Servittore! – перехватил он острым глазом человека, который извивался, как угорь, чтобы одновременно дать два разных обеда в противоположные углы.
– Subito, signor Niccolo?[8]
– Что это у вас пошли за беспорядки: макароны сырые, рис переварен?
И, ворча, продолжал по-русски, подмигивая на хозяйку, синьору Пепиту:
– Ишь ее, расселась, как индюшка, на толстой своей бригадирше!
Гоголь надул щеки, подморгнул и стал вдруг хозяйкой остерии. Сервитторе прыснули и разбежались с тарелками.
– Что это вы с ними вяжетесь, Николай Васильич, – прошептал опасливо Иванов, – предрянной народец, захотят – изведут… Я никому здесь не верю.
Вдруг вся остерия поднялась, забубнила, как рой:
– Шехеразада! Ура!.. Что на хвосте принесла, каковы новости?
Пашка-химик, он же Шехеразада, был неизъяснимого пола. Лицо под сорок, налито желтым жиром; по расплывшимся, сразу будто добрым чертам оно подходило бы к иной хозяйке-матушке, осевшей плотно в деревне, но брови, две ярко-черных пиявки, гнули сходство на китайского мандарина. А шустрые, как мыши, острые карие глаза обличали просто-напросто беса. И костюм был необычен: большая, когда-то драгоценная кашемировая шаль драпировалась на холщовом халате. Халат этот в деревне известен под именем «пыльника», и набрасывают его при поездке в летний день, когда в бездождье пыль стоит паром в дорогах.
Пашка-химик, человек почти научных занятий или художник из неудачных, – кто его разберет! Врал он много и разное, не затрудняясь. Когда и как он возник в колонии русских – никто не запомнит. Его приняли, он стал необходим. Промышлял он чем попало: от позирования натурщиком до подделки древностей, будто изысканных в Колизее. К обеденному часу у Лепре у него всегда была свежая сплетня или измышлены два-три сюжета.
Последнее качество ценилось особенно кучкой тупоумных уличных pittori, стряпавших картинки на вкусы разнообразнейших форестьеров. Сюжеты обеспечивали Шехеразаде блюдо макарон или ризотто.
Сегодня он принес не сплетню, а потрясающую новость о художнике Коневском, написавшем папский портрет.
– Синьоры, – пропищал Пашка голосом бабьим, подходящим к его виду евнуха, – отныне среди русских, питторов есть «кавалер золотой шпоры»! Как же, из рук его святейшества самого папы принят орден!
– Неужто Коневский? Пролез-таки!
И сразу, со всех углов:
– Пусть ставит выпивку!
– Сами себе и ставьте, – Коневский, братики, фью…
Шехеразада вставил пальцы в рот и свистнул, как свистят лаццарони. Синьора Пепита шагнула было грозно к нему, но по пути только гневно сплюнула и, как монумент, утвердилась снова за стойкой.
– Ну и к черту его! Сыпь свой сюжет, Шехеразада! Англичан вчера понаехало, сваляй такое, чтобы лестно было ихнему гонору. Здоровей наврешь – сытей будешь!
Шехеразаду усадили в средину стола. Он прехитрым взором обвел собрание, с особой лаской задержался на вновь прибывших из Академии пенсионерах. Их лица сияли. Здесь все так выходило из петербургской забитости, что непритязательная вольность остерии им ударила в голову, как вино.
– Пашка, ассигнации глазом не выберешь, к делу, подавай свой сюжет!
– Синьоры, сюжет отменно хлебный для форестьеров-инглезе: «Коронация королевы Виктории». Роскошь и великолепие, церемониал древнейших времен. Куды ни плюнь – Вестминстерское аббатство. Судьи в громаднейших париках, герольды в негнущихся парчовых рубашках. Коннетабли, епископы сплошь кен-тер-бе-рий-ские! Королеве вручают меч, казначей бросает в публику доллары – момент!
Для справок: одежда королевы – два миллиона франков; бедным роздано сто тысяч – приблизительно конец шлейфа Виктории.
Сюжет хлебный, сюжет-кормилец для подковки островных дураков! А второй… Да вот Бенедетту просите, – указал Пашка на входящую красавицу.
– Бенедетта… – и десяток молодых кинулся к входившей прекрасной итальянке. Она была в национальном костюме, как позировала одному из пенсионеров. Ее сопровождал итальянец, по виду и манере не римлянин, а приезжий из южного города. Бенедетта улыбалась знакомым.
– Бенедетта, дай сюжет, достойный картины, кроме тебя самой.
Бенедетта о чем-то горячо говорила со своим спутником. Она повернулась к художникам и сказала:
– Какой же сюжет может предложить итальянка, кроме самой Италии? Италия, а вокруг герои… каждый город может назвать героев, павших за отечество.
– Ну, для подобных героев у твоих властей недурно отточен топор…
– «Юная Италия» отточит кинжал поострей!..
– Бенедетта, – дернул ее за рукав сервитторе, – здесь только остерия, а не карбонарский ваш клуб, и тайные агенты наравне со всеми за столом жрут ризотто.
– Тем лучше, – сказала Бенедетта, – сейчас мы решили, что для дела нужны аресты.
Бенедетта прошла к столику, где сидел Иванов.
– Бенедетта, приди завтра позировать! – раздавалось со всех сторон. – Ко мне, нет, раньше к нам в студию!