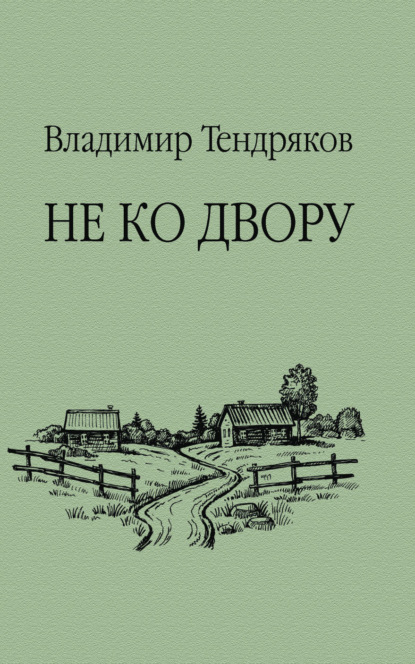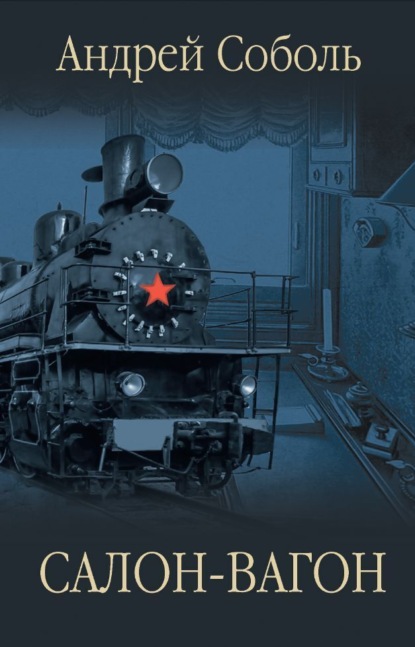Полная версия
Ворон

Ольга Форш
Ворон
Составитель серии В. И. Кичин
Текст печатается по изданиям:
Форш О. Д. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1956;
Форш О. Д. Ворон. Л.: ГИХЛ, 1934.
© Форш О. Д., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
* * *
Современники
Глава I
Флакон Борджиа
Есть сумерки души во цвете лет.
Лермонтов– Он помнит вас, Глеб Иваныч; столь заметлив, да чтоб позабыть.
– Да притворяться-то что за расчет?
– А таракан-с, Глеб Иваныч? Таракан, особливо черный, чуть не по нем, сейчас – хлоп, и в мертвом виде-с! Вот и он с вами: моя, дескать, хата с краю, – украинская наша замашка.
Багрецов в упор глянул на Пашку-химика, встретился, как всегда, не с глазами его, убежавшими куда-то в кусты, а с бровями, черными и вихлявыми, как пиявки, и сказал:
– Ты-то сам с каких пор украинец? Помнится, был поляк, потом чех. Вральман ты, Пашка, неизвестного возникновения и темной профессии.
– Шехеразадой сами прозвали-с, – хихикнул Пашка. – А ведь привилось прозвище, Глеб Иваныч, даже овербековцы с горы, на што постники, и те кличут: Шехеразада! Что же, Глеб Иваныч, выходит – у меня с князем тьмы один формуляр-с: неизвестность возникновения и темнота профессии. Однако сей образ не плохо воспет… сам лорд Байрон или наш Лермонтов, из-за которого, Глеб Иваныч, весь разброд вашей фортуны пошел, вплоть до «флакона Борджиа»…
Багрецов дрогнул, побледнел, на миг замер и так врылся в землю, словно ему следующий шаг был бы в пропасть. Пашка остро сверкнул очень умными глазами, но тут же потушил блеск и, будто не заметив волнения Багрецова, обыкновеннейшим тоном сказал:
– Сущие пустяки, Глеб Иваныч, сплошной бред в вас влюбленной приезжей барыньки. Старинная вам знакомая живет инкогнито у Карагиных. Я разговорчик слыхал, ведь при мне, что при лошади – не стесняются!
Багрецов оправился, даже улыбнулся, взял Пашку под руку, пошел с ним вглубь широкой аллеи каштанов.
– Расскажи про инкогнито, – уронил он небрежно.
– Ручку освободите, Глеб Иваныч, в ногу с вами нам все равно не попасть, ведь я поменьше калибром-с, хе-хе…
Пашка нагло глянул на спутника. Веки Багрецова были опущены, лицо приняло вид обычного бесстрастия. Он, видимо, сдерживался.
– В декабре, как вы знаете, будет в Рим высочайший приезд. Так вот из свиты его величества заблаговременно уже приехала жена одного адъютанта, вам до брака знакомая-с, фамилии не разобрал, но подруга княжны Карагиной. С ней при мне и совет был по случаю маскарадных костюмов. «Я, говорит, хочу нарядиться флаконом с надписью «флакон Борджиа», и пусть все с Багрецова глаз не спускают. Держу пари – вздрогнет он и побледнеет как смерть. Ну, тогда я кое-что про него расскажу…» Женская глупость, Глеб Иваныч, не иное. Вот я вам рассказал, а вы решительно ничего-с, разве что под ручку взяли, впервые меня удостоили-с за промежуток немалых годков-с, хе-хе…
Багрецов в бешенстве бросился к Пашке, схватил его за плечи, но тут же осекся, выпустил и молча сел на скамью.
– Вы ошиблись, Глеб Иваныч, – сказал без шутовства Пашка, – я вам вовсе не враг.
Однако рядом не сел, а продолжал речь, стоя у дерева:
– И последний разбойник, Глеб Иваныч, имеет свои увлечения. А я умнее вас никого не встречал, уж не отторгайте-с. А беспокойство от женской дури теперь вам какое же? Благодаря мне о главной козни вам все известно, так что в неудобное положение вы не станете. Остается инкогнито разъяснить – это тоже обдумано-с. С той недели княжна Карагина с этой новой своей другиней в развалине форума рисовать собирается, вы же утречком сходите и накроете. Нет, Глеб Иваныч, я вам друг и союзник всегда-с.
– Довольно об ерунде, – оборвал Багрецов. – Мне до Гоголя дело, Гоголь меня рассердил, а ты с сплетнями… Да что ты стоишь-то, сядь рядом, ведь не убью.
– Помилуйте, Глеб Иваныч, – заегозил Пашка, – я довольно сам понимаю, что несоизмерим интерес ваш к персонажу, так сказать, отечественно-гениальному или к некоей жене адъютанта, хотя бы вам с детства знакомой…
– Мне помнится, – сказал Багрецов, – тогда в именинный обед старика Аксакова в погодинском саду не было?
– Вот память-то! Истинно, не было. Старик заболел флюсом, прислал одного Константина. А ведь правда, Глеб Иваныч, сколько б народу ни нашло, Аксаковы, как шмели между пчел, всех слышней? Не любили вы их!
– Старику я завидовал, – сказал Багрецов, – он был моложе нас, молодых, полон здоровья и особой, коровьей силы, от скотного, что ли, двора? Знай удит свою рыбу и набирается…
– А с Гоголем, Глеб Иваныч, ведь совершенно как в басне «Пустынник и медведь»! Кто голосистей кричал: «У написавшего «Ревизора» нервы нам не чета, его общим судом не судить…» А сам-то дубиною – хвать! Как же-с, я своими глазами видал, как он Гоголя, совершенно больного, убегавшего от рева публики, тащил опять на эстраду, и корил, и пенял – все любя-с. А едва друзья разгласили о некоей его хлестаковщинке с чинопроизводством…
– Ты зарапортовался, – осадил Багрецов.
– И вот нет, Глеб Иваныч, ей-ей, после выпуска «Вечеров», проездом через Москву, Гоголь на заставе прописался не коллежским регистратором, а чином много повыше-с – коллежским асессором! Так и в «Московских ведомостях» я самолично прочел. И отметил-с.
– Да не для себя же, дурак, – для ослов, столь им гениально воссозданных…
– Как знать, Глеб Иваныч. Гений – тот же человек, хоть диапазона-с несоизмеримого. Впрочем, я держусь мнения: кто всему знает цену, тот и сам может делать все-с! А вы как, Глеб Иваныч?
И, не ожидая ответа, Шехеразада встал.
– Мне некогда, Глеб Иваныч, – делишко-с. Разрешите уйти. Ужо после обеда, в остерии Лепре, я весь ваш.
– Иди себе, – махнул рукой Багрецов и, проводив глазами егозливый облик Пашки в нелепом халате отечественного происхождения, глубоко задумавшись, остался сидеть на скамье.
Да, именинный обед в погодинском саду был Багрецову особенно памятен. В тот день игрою судьбы дан был толчок его воле на так называемое черное дело.
В тот день много пили, ели, говорили тосты. Гоголь был чопорно натянут, – казалось, он в какой-то собственной пьесе играет «хозяина дома». И нарочно волнуется, все ли в порядке, все ли как «у людей».
После обеда в саду он сам варил жженку, и когда легкое пламя охватило сахар, сказал, объединяя синий тон огня с синевою жандармских мундиров:
– А нуте-ка, принимайте в желудок своего Бенкендорфа!
Гоголь сам подал бокал одному гусарскому офицеру, который, если бы не форма, заметная среди большинства штатских, не показался бы Багрецову ничем замечательным. Он был безмолвен и не искал выделиться. И немало были все удивлены попозднее, в саду, под сенью лип, когда большинство гостей разбрелось по аллеям и Гоголь, обратясь к этому бледноватому офицеру, сказал вдруг с необыкновенной лаской:
– А нуте, Михаил Юрьевич, скажите-ка нам из «Мцырей», народу поредело.
Да, офицер этот был Лермонтов. Он тотчас, просто и естественно, не заставляя просить себя, вышел перед всеми и прислонился к стволу дерева. Оглядывая всех и никого не видя вдруг вспыхнувшими, огромными глазами, он начал отрывисто и глухо, будто невольную жалобу:
Я мало жил, и жил в плену…Багрецов вспомнил, как пронзительно и внезапно полюбил его. Вспомнил, как Лермонтов открылся ему в необычайной нежности и простоте, как понял он, что все грубое и плохое, о чем кругом про него говорили, была лишь защита человека, иного, чем все, для возможности жить между всеми.
Проскрипел, как тогда, прямо в ухо, голос Пашки-химика, – он пришел тоже с группой украинцев:
– Этот Лермонт невиннее всех великих людей-с, недаром и демон его, как девушка, верует в бога!
А с другой стороны рядом Гоголь…
Гоголь стоял, руки в карманы, больше сгорбившись, чем обычно, длинные волосы его упали прямою стеною, срезав навкось к подбородку круглое лицо, отчего нос вытянулся еще непомернее и заострился. Он как бы слушал еще некоторое время после того, как Лермонтов кончил, и, не дожидаясь оценки, укрылся вглубь сада.
Волнение Багрецова было чрезмерно. Он получил последний, недостававший его воле толчок. На что именно – он еще не знал. Одно он почувствовал: совершу!
Но тут же, испугавшись себя самого, он неудержимо потянулся к Гоголю, как к старшему, к учителю, к отцу… Вдруг поверил: он угадает, придет на помощь. Преодолевая обычную застенчивость, Багрецов тронул Гоголя дрожащими пальцами за руку и сказал:
– Николай Васильевич… эти стихи как порох! Ведь они могут взорвать, как же мне быть?
Он не кончил. Гоголь обернулся весь, кругловатым лицом. Багрецов навеки запомнил лицо. Необыкновенное. В профиль выраженное носом без меры, оно, склонившись в улыбке, с тончайшим лукавством приподнявшей подстриженный ус над полноватой губой, вдруг все засияло в глазах. Небольшие, острые, они прощупали всю подноготную, на миг вобрали в себя и тут же сплюнули, как плюют шелуху подсолнуха.
– А ты себе, хлопче, взорвись! – хватил Гоголь и припечатал по-украински крепчайшей печатью. Кругом так и грохнули смехом.
Багрецов и сейчас, через десять лет, покраснел. Он вспомнил, как вдруг, по-детски, совсем глупо вспыхнув, сказал Гоголю:
– Это грех, это грех…
Чуть не плача, он в тот же миг кинулся прочь из сада к себе на Васильевский. Пашка-химик теперь божится, будто Гоголь тогда потускнел и раза два с тревогой произнес:
– Ишь какой… недотрога…
После этого Николина дня неделю тому назад встретились здесь, в Риме, в остерии Лепре. Александр Иванов, старый одноклассник, назвал Гоголю Багрецова. Гоголь глянул сонно, пренебрежительно сунул руку, мертвую, без рукопожатия.
Багрецов встал со скамьи. Пока он тут сидел то в отупении всех чувств, то переживая вновь бывшее, быстрые итальянские сумерки сменились ночью. На синее небо томительно вышла луна, застрекотали цикады. Из-за акведука Клавдия мужской голос, аккомпанируя себе на лютне, то выводил арию, то срывался, раздражаясь по-итальянски целым фонтаном отборнейшей ругани.
Багрецов сказал maestro di casa[1] не пускать к нему никого и, пройдя в свою комнату, на ключ запер дверь, спустил на окна зеленые жалюзи. Потом он отпер дорожную шкатулку и отобрал из нее одну из переплетенных тетрадок.
Как просвещенный современник Евгения Онегина и Печорина, Багрецов, подобно «герою нашего времени», для беседы с собою исписывал тонким почерком не одну десть бумаги.
Найдя место, в подробностях воскрешавшее то, что сегодня забыть уже не было силы, он стал читать:
«…Я ехал полями и перелесками нашей губернии, безлюбовно узнавая родные места; я ненавидел свое детство. Чудовищный эгоизм отца пожрал мою юность, разбил нервы, изуродовал навсегда, сделав неспособным к действительной жизни.
Прошло много лет, как я отсюда выехал в Петербургскую академию, но при виде белого, в колоннах, хотыновского дома встало предо мной все, что было. Бессонные ночи, зеркальный паркет залы с двойным светом, хождение под руку с отцом до восхода. Встали воскрешенные бессонницей, обилием выпитых рюмок призраки войн, походов, путешествий по Европе, лекций по истории, по конским заводам, игре в рулетку – все вперемежку, как придется.
Эти путешествия безумного старика с подростком продолжались до тех пор, пока легко розовело и расступалось небо, чтобы принять юное солнце, пока не появлялся в строгом фраке, с почтительным зовом, лакей Илья:
– Пожалуйте в ванную, Иван Никитич!
Отец не сек людей, не продавал в розницу, даже не терпел, чтобы его звали барином, но все это не от гуманности, а лишь от брезгливости умного человека с европейским развитием. По своему непомерно строптивому нраву он себе испортил большую карьеру, заперся в деревне, ушел в книги.
Восхищенный моей быстрой сметкой, он облюбовал меня для ночных разговоров. Сначала мне это было лестно, но вскоре я изнемогал уж под бременем яростных впечатлений и сложнейших взаимоотношений мира. Впрочем, я кончил тем, что втянулся, отравившись безграничностью воображения. Больше того, фантазия, развитая за счет других сил души, навсегда меня сделала чувствительным только к острому и необычному.
Днем, как и отец, я спал до сумерек, потом шли занятия, потом бессонная ночь. Так перевернуто, неслыханно для здорового деревенского быта прошла моя ранняя юность. Вероятно, к годам двадцати я просто спился бы, не вмешайся тут моя тетка, такая же крутая, как батюшка. Тетка, узнав о моих способностях, поместила меня своекоштным в академию в Петербург. По тогдашнему времени это было просто чудачество: в художники шли кантонисты, мещане, в лучшем случае сыновья живописцев. В нашем классе я был один потомственный дворянин. Отец и тут рад был случаю поступить не как все…»
Багрецов бегло просмотрел унылый ряд лет, где полуневежественные учителя отличались один от другого лишь тем, что у каждого была своя манера драться, где ученики, полуголодные, одичалые, ложились в холодных дортуарах с чадной лампой, чтобы на рассвете, вскочив по звонку, начать новый день, подобный вчерашнему.
«…В эти опасные годы пробуждающегося сознания один замечательный человек, пейзажист Рабус, имел для меня решающее значение. Квартира его представляла из себя целый музей. Он интересовался всеми отраслями знания: прекрасная библиотека, модели военных кораблей, обсерваторийка, устроенная на крыше собственного дома. И все это кроме живописи, которой он предан был совершенно. Да, Рабус дал мне впервые постичь, насколько наслаждения умственные богаче всех прочих. Впрочем… это познание пошло мне, пожалуй, не к добру.
Рабус необыкновенно пленил меня. В серой академической жизни это был первый человек – не узкий специалист, а широкой европейской хватки. И я поставил себе задачу – стать таким же. Это для начала… дальнейший мой план был иной. Уже давно я не жил только живописью, моя мысль работала. Меня увлекала история иных, свободных народов; мне была невыносима забитость понятий и чувств, в которых нас держали насильственно. Но средств для широкого образования у меня не было. А для того, чтобы получить наивысший здесь жребий – заграничную поездку, – мне надлежало, задушив все прочие мысли, работать на конкурс по двенадцати часов в сутки, подделываясь под вкусы начальствующих.
Необыкновенные обстоятельства пришли на помощь моей жажде широкого знания. В последнем классе я получил от отца эстафету и, теряясь в догадках, поехал после многих лет домой.
Я нашел отца очень постаревшим. Вокруг были незнакомые мне приживальщики из мелкопоместных дворян, экономка из немок. Родных детей никого: почему-то отец вызвал только меня.
Встретил с ласкою необычной, увел к себе в кабинет, весь день все расспрашивал, как бы экзаменовал.
Поначалу я отвечал нахохлившись, готовый к отпору, но отец проявил столько просвещенного интереса по разным вопросам, что я, вдруг утратив чувство отчуждения, стал сверкать смелыми парадоксами, предвосхищая открытия в науке, создавая новую живописную школу.
Как скоро пришлось мне раскаяться в моей искренности!
Вечером старик призвал меня в свой кабинет, закрыл двери, сказал:
– Экзаменом, который я тебе произвел, я доволен весьма. Вижу, что задуманное мною для твоей дальнейшей судьбы задумано с умом и подлежит выполнению. Слушай, имений своих я, как ты знаешь, не прибавил, а значительно пропустил. Детей и внуков у меня до полсотни, дураков не обобраться, лишь у тебя и характер и ум. Приятно поражен и расположением твоим к европейскому ходу жизни. А посему вот: наследства я тебя лишаю вовсе, в пользу тех, дураков…
Отец остановился и, любопытствуя, глядел на меня. Я молчал, полагая, что старик заговаривается или ломает каприз.
Он угадал.
– Я в своем уме, и преострейшем, что тебе сейчас докажу.
Он отпер ящик и по толстой слоновой бумаге стал читать длиннейший реестр движимого и недвижимого.
– Ну, это до завтра не кончить! Словом, на твой век довольно. Это не что иное, как приданое твоей будущей жены, княжны Котовой.
Я, впадая в тон затеянной отцом с неизвестной мне целью интриги, сказал небрежно:
– Кто же это без моего ведома меня сосватал?
– Я сам, – сказал отец. – Невесту я примерял как бы для себя, вообразив себя в твоих летах и в твоем положении. Мы ведь необыкновенно с тобой сходствуем. Если не пожелаешь противопоставить ложного самолюбия, не замедлишь во всем согласиться. Вот слушай, держа в руках этот портрет.
Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую женщину, худощавую, с чертами резковатыми, с черными глазами, с печатью грусти на всем гибком ее существе.
– Сплошное разбитое сердце, – сказал я. – И это героиня?
– Она грустила после измены недавнего жениха, который предпочел ей еще богатейшую. Но дело было уже год назад, сейчас снова весна. Жизнь вступает в свои права. По гордости княжна любит утверждать, что личное счастье ее кончено, что теперь она выйдет замуж лишь из самоотвержения. Преотличная женская разновидность, и к тому же не болтлива! Сейчас у нее особая склонность к исправлению павших: возится с ворами и пьяницами. Я этот пыл ее верно учел; на приманку клюнет… Она тебя старше годков на пять, что совершенная ерунда. В швейцарских кантонах испокон века каждая жена старше своего часовых дел мастера, что не мешает Швейцарии славиться отменной семейственностью. Тебе ж такая жена – просто клад для качеств обратных. Ты в меня – посуди, каков будешь семьянин? Полагаю, для тебя уже не секрет, что так называемая любовь не для умных людей. Умному не забыть ни из-за чьих милых глазок: один человек рождается, один помирает! Что же до мгновенных вспышек страстей, воображения, сердечного чувства и просто каприза или похоти, то удобнее всего производить их при постоянной жене такого именно типа, как княжна. Впридачу повторяю: родовита, богата и – важнейшее – малословна.
– Но она чего ради пойдет за меня?
Отец хитро улыбнулся.
– Я изобразил ей тебя совершеннейшим негодяем с проблеском сердечного чувства, которое, будучи отогрето умелой рукой, даст прекраснейший урожай. Натурально, княжна возгорелась спасать. Дагерротип твой я ей показал невзначай. О том, что ты недурен, тебе нечего разъяснять. У княжны оскорбленное самолюбие, здесь глушь.
– Словом, вы затеяли упражнение произвольного спаривания? – сказал я не без яду.
– Если бы к этому способу спаривать юное поколение прибегали с умом их родные, человечество было бы много счастливее. Скрытая жизнь страстей – бездна, кишащая чудищами, из коих каждому легко тебя проглотить. Не удобнее ли проделывать сии эволюции, держась за канат, который в случае чего всегда может вытянуть в безопасность.
Я расхохотался. Мы с отцом обнялись…
Отец сказал:
– Математические принципы и в жизни самые достоверные, на них надлежит строить историю не только отдельного рода, но всего человечества. Если две величины порознь равны третьей…
Каким способом установлена была связь между этой формулой и необходимостью моей женитьбы на Котовой – я уже не слыхал.
Давно соблазненный тончайшей отравой опасных для юности чар развратников XVIII века из подобранной отцом библиотеки, я уже торопился к себе, чтобы обдумать план действий, речи, костюм.
Ведь, кроме занятной игры, предо мной раскрывалась с женитьбой свободная жизнь, поездка в Италию – словом, все то, о чем злобно мечталось, как о недоступном.
Одевшись к лицу, но небрежно, с миной поэтического негодяя, я сошел вниз к обеду, где представлен отцом был княжне, приехавшей вместе с теткой, прескучной старухой. Княжна оглядывала меня горящими от любопытства взорами, наконец первая завела разговор о мастерах старой школы. При отъезде я был приглашен к ней на завтрак в имение.
Начатое по программе сближение пошло вдруг само собою. Я не был влюблен, но Марья Юрьевна ко мне действительно подходила, обладая характером нежным, живущим в собственных мыслях. Очень скоро я мог быть с ней даже вполне откровенен. В расчете избавить себя от грядущих сцен ревности, я готовил ее к своей непригодности для прочной семейственной жизни, на что она очень мило сказала:
– Умные жены ревнуют молча.
Скоро отец справил свадьбу со всею возможною в деревне роскошью. Мы уехали в Петербург.
Академию я бросил. Прекрасно обставив квартиру, пустился жадно расширять свои знания, чем еще больше пленил свою жену, отчаянную домоседку.
Помню, в академии, когда я сказал Александру Иванову о перемене своего положения, особенно о том, что я женюсь, – он изменился в лице и с испугом спросил:
– А как же с заграничной поездкой? Ведь женитьба тебя по закону лишает…
Я снисходительно улыбнулся и, как разбогатевший лакей, отпустил:
– Я теперь довольно богат, чтобы ехать в Италию на собственный счет!
Иванов побледнел еще больше, так что я подхватил его, боясь, что он упадет. Как ни знал я его подверженным сильному чувству дружбы, подобное волнение приписать лишь одной перемене в моей личной судьбе я не мог.
В одну из суббот у Рабуса я понял все.
Когда вместе с отцом, музыкантом Гюльпеном, вошла его дочь, прелестное легкое существо, Иванов так вспыхнул, что сомнений быть не могло. Он влюблен. Больше того: я тут же узнал от товарищей, что он хочет на ней жениться, но академия лишала женатых поездки, и перед ним встал роковой выбор: искусство или личное счастье? Италия, дивные мастера, совершенство в развитии дарования или… Пример был перед глазами: родной отец. Талантливый, нежный, запуганный вечной зависимостью, ради семьи забивающий педагогикой свободное творчество.
Весь этот год Иванов колебался и страдал до нервического расстройства. Однако при твердой поддержке Рабуса он отказался от брака с дочерью Гюльпена и всего себя отдал безвозвратно искусству. В половине июня тридцатого года мы его, наконец, проводили в заграничную поездку.
– До скорой встречи, счастливец, – сказал он мне, намекая на то, что я против него вдвойне взыскан фортуной, и прибавил, поникнув:
– О, горе художнику, рожденному нищим! Нищета нас лишает свободы.
Да, я знал это слишком хорошо, когда шел на сделку, предложенную отцом. И первой наградой этой мною добытой свободы будет поездка в Италию. Мы с женой порешили – через год. Но в жизни не то, что в мечтах.
Через полгода после свадьбы умер внезапно отец. По завещанию оказалось, как он мне и сказал, что я, женившись на богатой, им исключен из числа сонаследников. Отец оставил мне лишь свою библиотеку развратников XVIII века.
В этот день, как выражаются повествователи, появилась первая черная туча, предвозвестница жестокой грозы на моем супружеском горизонте.
Узнав о завещании отца, моя благоразумная жена улыбнулась лукаво и произнесла:
– А ведь при всем уме твой отец и не понял, что я его перехитрила. Сейчас, когда мы так счастливы, я раскрою тебе свою тайну. Я отлично видела, как отец твой готовил меня тебе в жены. Я любовалась его стариковским прехитрым маневром и с охотой пошла ему навстречу, увидав твой портрет. Но, признаться тебе, я тебя не любила. Горько оскорбленная в своем поруганном юном чувстве, я к браку влеклась лишь потребностью материнства. Уверившись в твоих качествах, я остановила на тебе свой выбор; за корысть я тебя не корю. Мы квиты. Мы взаимно, по разным соображениям, но сыграли одну и ту же роль. Тебе выгодной показалась такая жена, как я, ты мне подошел как отец моих грядущих детей. Но теперь, когда первенец наш должен явиться, я тебя люблю, милый друг, от души.
Я сидел за большим рисунком, скрывавшим лицо и помогшим скрыть мое бешенство. Жена, растроганная своей длинной тирадой, оставила работу, поцеловала меня, охватив руками мне голову.
Я остался сидеть как окаменелый. Ничего особенного не было сказано, а предо мною разверзлась бездна, в которую, знал я, неминуемо полечу. Мы с отцом думали, что распоряжаемся наивной женщиной, а она, в свою очередь, распорядилась мною, определив меня себе в производители.
И я вспыхнул внезапной ненавистью к ней и к этому, ни на что не нужному, первенцу. Я был слишком молод, к тому же я предчувствовал и дальнейшее… в чем не замедлил удостовериться на другой же день.
В такой же вечерний час, когда жена в маленьком будуаре шила что-то из детского приданого, я ей сказал:
– А ведь, пожалуй, пора нам подумать о подыскании кормилицы, я надеюсь, появление ребенка не задержит назначенный отъезд наш в Италию?
– Мой милый, – чуть хмурясь, сказала жена, – посторонней женщине свое сокровище не отдам, поездка же будет зависеть от здоровья ребенка. – И, пытаясь смягчить слова улыбкой с отвратительным мне доктринерством промолвила: – Привыкай к мысли, что детям в нашей семье принадлежать будет первое место!