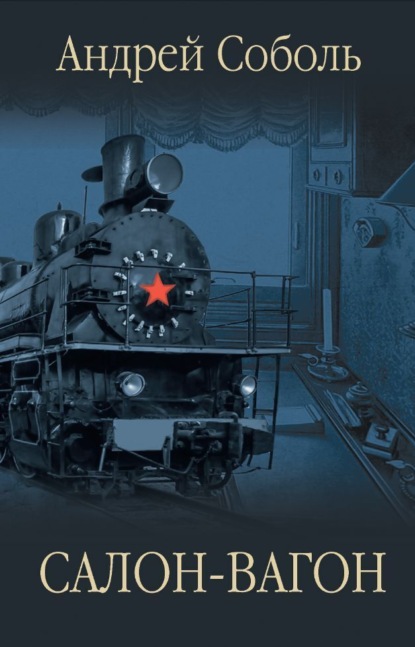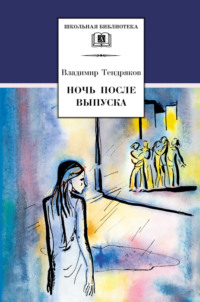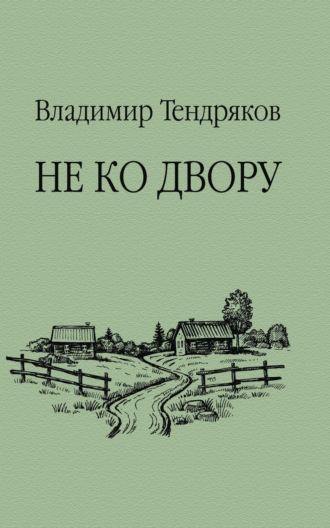
Полная версия
Не ко двору
Сел, как бывало в неловкие минуты, к приемнику, поймал Москву. Там пели:
За твои за глазки голубыеВсю вселенную отдам…Стало не по себе, выключил, походил около двери, но войти не решился.
Там тесть сидит, – верно, подметку на старые сапоги набивает или к чайнику отвалившийся нос припаивает, молчит угрюмо. Теща, поджав губы, вздыхает: «На премию целится молодец…» Туда сейчас нельзя, там как на врага взглянут.
«Стеша, наверное, плачет… И чего сорвалась? Договорились бы… Беда какая! Да черт с ней, с усадьбой, и без нее голодными не остались бы!..»
Скинув сапоги, лег лицом в подушку, ждал, ждал Стешу. Но та не приходила, не шел и сон.
Встал. Походил по комнате нарочно шумно, чтоб слышали на той половине, двигая стульями. Вспомнил, что днем, помогая ребятам устанавливать плуг, как-то зацепил рукавом, порвал. Решил залатать. Пусть Стеша приходит. Он будет сидеть, шить и молчать: любуйся, мол, какой у тебя догляд за мужем, не совестно?..
Разыскивая в коробке из-под печенья нитки, он наткнулся на комсомольский билет.
На собраниях Стешу не встречал, знакомился – полной анкеты не требовал.
Потом как-то привык – она работает, на работу не жалуется, и в голову не приходило поинтересоваться, комсомолка или нет.
С виду новенькому, не мятому, не затертому билету было четыре года. На карточке Стеша почти девочка, лицо простоватое, брови напряженно подняты; теперь куда красивее она выглядит. Членские взносы заплачены только за три месяца. Давно выбыла, четыре года билет валяется.
Держа в руках этот билет, Федор задумался: «Жена, ближе-то и нету человека, три месяца с ней живу, а ведь не только это, многого еще, пожалуй, не знаю про нее… Верно говорят: Чужая душа – потемки».
Стеша так и не пришла, ночевала у родителей.
10…Лошадь требует – подай и шабаш, знать не хочу колхоза!..
И работу-то она нашла тихую, непыльную, лишь бы в колхозе не сидеть…
И комсомольский билет забросила, сунула вместе с нитками, забыла, и горя мало…
Но ведь все ж она душевный человек, мало ль промеж них пережитого, плохим словом о прошлом не обмолвишься, просто крест на ней не поставишь…
Шесть лет работает Федор бригадиром трактористов, а трактористы в деревне – особая статья. Этот народ цену себе знает, любит независимость. Со всякими ребятами приходилось сталкиваться. Случалось, подносили под нос пропахший керосином кулак: «Не командуй, Федька!.. Сами с усами». Но и таких Федор обламывал. По начальству не ходил, не плакал в жилетку: сил-де нет, управы не найду. Шелковыми становились ребята, умел договориться. Девчата под его началом работали… Ну, с девчатами – легче легкого. Слово за слово, коль смазлива, то, глядишь, и за подбородочек можно взять – сразу растает.
Стеша тоже человек. Договориться нельзя, что ли? Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за лошади. Да Стеша и сама откажется, только подойти надо умеючи. «Ай, Федор! Что ж тут казниться-то? Со своей женой да не столковаться – смех!»
Федор с трудом дождался обеденной поры. Стешу он застал дома, и она встретила его, на удивление, мирно.
– Вернулся, поперечный? А я уж думала, и к ночи не придешь. Наказание ты мое! Ладно, садись обедать.
С самого утра Федор готовился к разговору, сам про себя спорил, придумывал ответы, упреки, шутки. И на вот – все ни к чему. Стеша не держит на сердце обиды. Федор даже немного растерялся.
– Так ведь, Стеша, сама посуди… Чего просила… Разве можно… Не время теперь…
– Это ты о чем? О лошади?.. Так об этом и говорить нечего. Ты не захотел – отец достал. Он уже пашет. Мимо шел, не заглянул небось, не поинтересовался.
– Как достали? Откуда?
– Откуда, откуда… Да все оттуда же. Пошли к Варваре и попросили. Это ты гордец выискался – совести не хватит!.. Садись уж за стол. Сегодня суп с курятиной, солонина-то, чай, опостылела.
Она, как всегда, спокойна и деловита. Мягкой поступью ходит вокруг стола, осторожно, чтоб не испачкать белой кофточки, в которой она сидит на работе, подхватывает тряпками тяжелые чугуны, легко их переставляет. С ней да ругаться, про нее да плохо думать, кто же не без греха? И все же во время обеда Федор молчал, не переставал думать: «Как это Варвара решилась? Нет же лишних лошадей. Ни Силантия Петровича, ни Алевтину Ивановну она вроде особо не жалует. Что-то не то…» После обеда он нарочно завернул за угол, полюбовался: Стеша не шутила – по черной, взрыхленной земле прыгали галки, тесть, сутулясь, неровными оступающимися шажочками шел за плугом.
У Федора неспокойно стало на душе.
Тетка Варвара хмуро отвела от него взгляд.
– Ты лошадь просил, – сказала она, не обращая внимания на произнесенное Федором: «Здравствуй, Степановна». – Так я дала ее.
– Я?.. Лошадь?..
– Иль не просил, скажешь? Силан утром целый час подле меня сидел, попрекал, что относимся к людям плохо, что ты, мол, ради колхоза покой потерял, а я уважить тебя не могу. Так и сказал: «Федор просит уважить…» Еще пристращал: «Кобыленку жалеешь – как бы дороже не обошлось». Я Настасье Пестуновой отказала, у нее пятеро – мал мала меньше, сама хворая, мужа нет… А тебя уважила. Приходится… Оно верно – план-то сева дороже заезженной кобыленки.
– Не просил я лошадь, тетка Варвара!
Но тетка Варвара всем телом повернулась к бухгалтеру:
– Так ты куда ж, красавец писаный, этот остаток заприходовал?
– Тетка Варвара! Слышь!.. Нечего мне затылок показывать, выслушать надо!
– А ты не кричи на меня. На свою родню иди крикни, ежели они тебя обидели.
Как ошпаренный, выскочил Федор из конторы, широким шагом зашагал к дому.
Он подождал, пока большеголовая, кланявшаяся мордой на каждом шагу лошадь добралась до обочины, взял ее за поводок.
– Стой, батя.
– Чего тебе? – Выцветшая, с черным околышем военная фуражка была велика тестю, треснувший матовый козырек наполз на хрящеватый нос.
– Выпрягай.
И, не дожидаясь помощи, Федор сам отцепил гужи. Лошадь дернулась и остановилась, вожжи были привязаны к ручке плуга.
– Отвязывай!
– Так, сынок, так… Ой, спасибо… Забываешь, видно, под чьей крышей живешь, чьи щи хлебаешь… А вожжи ты оставь. Вожжи мои, не колхозные.
Федор отцепил вожжи, побросал концы на землю.
– Позорить себя не дам! – крикнул он, уводя лошадь. – И щами меня не попрекай! Себе и жене на щи заработаю!
Он отвел в конюшню лошадь и ушел в поле, к тракторам, до позднего вечера.
11Стемнело.
Наигрывая только здесь, по деревням, еще не забытый «Синий платочек», уходила из села гармошка. За пять километров отсюда, в деревне Соболевка, сегодня свадьба. Какой-то незнакомый Федору Илья Зыбунов начнет с завтрашнего дня семейную жизнь. На крылечках то ленивенько разгораются, то притухают огоньки цигарок. Две соседки, каждая от своей калитки, через дорогу, через головы редких прохожих судачат о какой-то Секлетее – и такая она и сякая, и нос широк, и лицо в веснушках: «Как только на нее, конопатую, мужики заглядываются, уму непостижимо…»
Живет село неторопливо, спокойно готовится к ночи. Через час уснет с миром.
А средь других, грузно осевший в кустах малины, стоит дом. Угрюмо глядят на неуверенно приближающегося Федора его темные окна. Тяжело Федору переступить порог этого дома. И не переступил бы, прошел мимо, да нельзя. Так-то просто не отвернешься, не пройдешь мимо.
Федор осторожно толкнул дверь, она не открылась – заложена изнутри.
Что делать? Повернуть обратно? Постучать? И то и другое – одинаково трудно.
«Здесь пока живу, не в другом месте…» – Федор громко стукнул.
Долго не было ответа. Наконец раздался шорох.
– Кто тут? – Федор вздохнул свободней: не тесть, не теща, а Стеша, это хорошо.
– Я… Открой.
Молчание. Сперва морозный озноб пробежал под рубашкой, потом стало жарко до пота.
Но вот стукнул засов, дверь отошла, за ней послышались удаляющиеся шаги, резкие, сердитые.
Федор вошел, запер за собой дверь.
– Пришел, вражина? А зачем? Чего тебе тут?.. Тебе весь свет милей, чем мы! Поворачивай обратно! Глаза терпеть не могут тебя, постылого! Связалась я!..
– Стеша!.. Да обожди… Да брось ты… Пойми, выслушай…
Посреди комнаты, в белой рубахе, волосы растрепанные, неясное в темноте лицо, голос клокочет от злости, чем дальше, тем громче ее выкрики, срываются на визг. В тихом, уснувшем доме, где Федор приготовился говорить вполголоса, это не только неприятно, это страшно.
– Объяснить хочу…
– Какой ты мне муж! И чего я на тебя, дурака, позарилась!.. Пришел! На-ко, мол, полюбуйся!..
– Стеша!
– Не приютили тебя дружки-то, сюда приперся!..
– Брось, Стешка!
– Ай, мамоньки! Что же это такое! Напаскудил, отца оплевал, теперь на меня… Несчастье мое!.. В родном-то доме!..
– Брось плакать! Послушай!
Но Стеша не слушала; белая, высокая, сцепившая на груди руки, она визгливо, по-бабьи, заливалась слезами.
– За что-о мне на-а-ка-азание та-акое!
Стукнула дверь, в полутьме на пороге показалась теща в накинутом поверх исподней рубахи старом ватнике, пахнущая щами.
– Господи Боже, Исусе Христе!.. Стешенька, родимушка, да что же это такое? Касаточка моя… Силан! Силан!.. Ты чего там лежишь? Дочь твою убивают!.. Ведь вахлак-то пьянешенек приперся!
И Федора взорвало:
– Вон отсюда, старое корыто! Нечего тебе тут делать!
– Си-и-илан!
– Мамоньки! Отец! Отец!
В белом исподнем, длинный, нескладный, ввалился Силантий Петрович, схватил за руку дочь, толкнул в дверь жену.
– Иди отседова, иди! Стешка, и ты иди! Опосля разберемся… Я на тебя, иуда, найду управу…
– Уйди от греха!
– Найду!
Как отзвук всего безобразного, донесся из-за двери голос тещи:
– Ведь он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!
Стало тихо. Федор долго стоял не шевелясь.
«Вот ведь еще какое бывает… Что теперь делать?.. Уйти надо сейчас же… Но куда?.. На квартиру к трактористам, к ребятам… Но ведь спросят – зачем, почему, как случилось?.. Рассказывать – себя травить, такое-то позорище напоказ вынести. Нет, уж лучше до утра здесь перемучиться!»
И чтобы только отогнать кошмар темной комнаты – смутные фигуры Стеши, ее матери с ватником на плечах, тощего, как ножницы, тестя в подштанниках, – Федор зажег лампу.
Разбросанная кровать, половички на полу, белая скатерка на столе, желтый лак приемника, лампа под бумажным колпаком… Всплыла ненужная мысль: «На лампу-то абажур купить собирался, сверху зеленый, белый понизу…» И не испуг, а какое-то недоумение охватило Федора: «Неужели конец?» Пол под ногами вымыт Стешей, скатерка на столе ее руками постелена, а края этой скатерти, знать, подрубала теща, половички, занавески, этот страшный сундук… Вспомнился выкрик: «Он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!» Радовался – свое гнездышко! Сейчас, куда ни повернись, скатерка, половичок – все, кажется, кричит Стешиным голосом: «Вражина! Куда приперся?»
«Гнездышко, да не свое… Ночь бы здесь провести, утром что-то придумать надо…»
Хотя на половине родителей, в маленькой боковушке, стояла широкая кровать с никелированными шарами, с пуховым матрасом, с горкой подушек, устланная нарядным верблюжьим одеялом, но старики обычно спали то на печи, то на полатях, подбросив под себя старые полушубки. Остаток ночи Стеша провела на этой кровати.
Первые часы она плакала просто от злости: «Кто дороже ему, вражине, жена родная или тетка Варвара?» Но мало-помалу слезы растопили обиду, стало стыдно и страшно. «Как еще обернется-то? А вдруг да это конец!..» Стеша снова плакала, но уже не от злобы, а от обиды: не получилось счастья-то.
А счастье Стеша представляла по-своему…
Она родилась здесь, в этом доме, здесь прожила всю свою недолгую жизнь.
Если б кто догадался ее спросить: «Случалось ли у тебя в жизни большое горе или большая радость?» – ответить, пожалуй, не смогла бы. Большое горе или большая радость? Не помнит. Когда ей исполнилось семнадцать лет, подарили голубое шелковое платье. Она и теперь его носит по праздникам… После этого отец с матерью каждый год справляют обновки. Каждая обновка – радость, но от голубого платья, помнится, радостнее всех было. А большей радости не случалось.
Училась в школе. В шестом классе уже выглядела невестой – рослая не по годам, и лицо с румянцем, и стан не девчонки. Училась бы неплохо, если б не математика, от задачек тупела. Но все же шла не хуже других, так – в серединке. В самодеятельности выступала, со школьным хором частушки на сцене пела…
Молодежь в своем колхозе обычно старалась не задерживаться. Парни уходили в армию и не возвращались, девушки уезжали то по вербовке, то учиться в ремесленное, то шли поближе, в райцентр, куда-нибудь делопроизводителем бумаги подшивать. Стеша не кончила восьмой класс – на вечерках поплясывать стала, парни провожали, сидеть за партой, решать, чему равно «а» плюс «б» в квадрате, казалось стыдновато, да и ни к чему, в ее жизни «иксы» да «игреки» не пригодятся.
От дома она не оторвалась, никуда не уехала, но и в колхозе работать – отец с матерью в один голос объявили – расчету нет. Поступила на маслозавод. Работа нетрудная – проверить молоко, принять, выписать квитанцию. На маслозаводе кроме нее работало всего пять человек, все пожилые, семейные. Стеше в товарищи не под пару.
Держалась сначала старых подруг, с ними она ходила на вечеринки, секретничала в укромных уголках, кружок самодеятельности посещала и даже в это время в комсомол вступила. Другие-то вступают, чем она хуже?..
Вступила, но собрания по вопросам сеноуборки или вывозки навоза – не вечеринки с пляской. Как-то само собой получилось – она отошла от старых подружек (немного их оставалось в колхозе), те забыли ее.
Началась жизнь: дом да маслозавод, маслозавод да дом, каждый день одна дорожка мимо дома Агнии Стригуновой, мимо ограды Петра Шибанова, мимо конторы правления… Скучно бы жить так, да надежда была – кому-кому, а ей не сидеть в вековушках. Найдется под стать ей парень, недалеко уж то время – найдется!
Как отец с матерью живут, она жить не собиралась. Целыми днями они хлопочут по хозяйству, садят, поливают, на базары возят, на медке, на мясе да на картошке копейку выбивают. Едят сытно и еще обновы покупают, а ходят не нарядно, даже спят не по-человечески – печь да полати. В избе неуютно, стены голые, две темные иконки на божнице да отрывной календарь – вот и все украшение. Они довольны, частенько приходится слышать: «Сравнить с другими, справно живем, грех жаловаться…» И какой спрос с отца, с матери, – им век доживать и так хорошо.
Вот выйдет замуж – по-своему наладит. Муж будет обязательно или учитель, или агроном, культурный человек, чтоб книги читал, газеты выписывал. Займут они половину дома, комнату с печью-голландкой. Тюлевые занавески на окнах, на столе патефон вязаной скатеркой накрыт, стеклянная горка с посудой – свое-то хозяйство из всей силушки станет обиходить.
Представлялось: раным-ранешенько, вместе с солнышком, проснется она – муж спит, сын (сын – непременно) спит; тихонько выходит она в огород. Босые ноги росяным холодком жжет, по крепким капустным листьям вода блестящими катышками сбегает, помидорным листом пахнет – все кругом свое, во все ее душа вложена… А по вечерам гости приходят. Не своя деревенская родня, не Егоры да Игнаты, а мужнины гости. За столом сидят, чай пьют, о политике рассуждают. Она или в сторонке с вышивкой на коленях, или угощает: «Кушайте на здоровье, медку-то не жалейте… Свои пчелы, сбор нынче хорош».
Вот оно, ее счастье, – мир, тишина да дом полная чаша.
Но не все как думалось, так и вышло. Муж хоть и собой парень видный, а не учитель, не агроном, почти свой брат-колхозник. Правда, книжки читает, газеты иногда на дом приносит, но гостей его приглашать неинтересно, не чаек, не разговор о политике их интересует – пиво да водка, споры о горючем.
Не совсем тот муж.
Стеша про себя тайком считала – осчастливила она Федора, могла бы и другому достаться. Потому и обидело ее страшно: Федор-то больше, чем родителей ее, больше, чем дом свой, больше ее самой посторонних уважает, тетку Варвару слушается!
Утром она, как всегда, ушла на работу. Там она сидела за закапанным чернилами столом, вздрагивала от каждого стука дверей. Все казалось – вот-вот должен войти Федор, и обязательно с повинной головой.
В маленькой конторке маслозавода было душно от нагретой солнцем железной крыши, стоял крепкий запах прокисшей сыворотки. Из-за размытых дорог, из-за жаркого дня молоко колхозы не везли, работы не было…
Стеша сидела и ждала. Федор не появлялся. Она вдруг почувствовала головокружение и тошноту…
12Уснул с мыслью: утром что-то надо придумать, – а придумать ничего не мог.
Ходил по распаханным полям от трактора к трактору, потом выбрал сухое местечко, на припеке, лежал на земле, надвинув фуражку на глаза, дремотно глядел в весеннее густо-синее небо.
«К матери бы съездить. Давно уже не был. Холостым-то что ни месяц навещал…» И вспомнилась Федору мать. Идет, согнувшись, мелкой торопливой походочкой, голова в выгоревшем платке вперед, руки назад отброшены.
Встретит бригадира, начинает обязательно выговаривать: «Куда смотришь? Где глаза твои?.. За лопатинским двором в овсе козы гуляют. Огорожу поправить досуга у вас нет! Старухе заботиться приходится. Лаз – что ворота. Я там прикрыла малость». И бригадир спокоен: раз Дарья Соловейкова «прикрыла малость», значит – порядок, там козы не пролезут. Он стоит, выслушивает, пока Дарья не устанет.
Любит мать поворчать. Отцу-покойнику доставалось на орехи. Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него что-нибудь новенькое приготовлено: на повети крыша прохудилась, поленницу не на место сложил, дрова сырые привез. Отец так и называл: «Обедать с музыкой». А сколько затрещин Федьке перепадало!.. Ворчлива мать, неуживчива, а в деревне ее любят…
«К ней бы поехать, выложить все – поймет, пожалеет, поругает по-своему… Нет!»
У матери одна теперь радость – сыновья. Они счастливы – счастлива и она. Приехать, пожаловаться… Со стороны-то для нее его горе вдесятеро больше покажется. «Нет уж, сам решай, не порти жизни матери».
Федор поднялся, нехотя направился в село.
Тетка Варвара, видно, своим бабьим сердцем учуяла беду Федора.
– Чегой-то невесел, молодец? – Но расспрашивать не стала. Она знала, что Федор привел обратно лошадь, знала и семью Ряшкиных… Она просто предложила: – Пойдем-ка ко мне, гостем будешь. А то работаем, считай, вместе, а знакомство конторское. Негоже! И старик мой рад-радешенек будет: раз гость, значит, и косушка на стол. Любит.
Домик у председательши был всего в четыре окна – две крохотные горенки с чисто выскобленными стенами. Под полатями Федору пришлось согнуться.
– Чего так разглядываешь мое житье? – спросила тетка Варвара.
– Могла бы и пошире жить.
– Не положено. Многие не лучше меня живут. Коль мне ставить новую хоромину, так и другим надо… В лесу утонули, одни крыши на солнце проглядывают, а по всему селу постройки не только до колхозов, а еще до революции ставлены. Руки не доходят.
– Кто же виноват? Вон в Хромцове целая улица новая.
– Кто ж виноват? Может, и я… Опять, старый, пол не подмел?
– А то каждый день полагается? – весело и бойко отозвался старик.
Муж тетки Варвары был тщедушный, с прозрачной седенькой бородкой, морщинки у него по лицу беспечные, разбежались в улыбке. Федор знал – дед Игнат был дальний родственник Алевтине Ивановне, – значит, и его. Игнат был на их свадьбе, выпил не больше других, но всех скорей охмелел.
– Плохая ты у меня хозяйка, – покачала головой Варвара.
– Заведи другую… Вот, братец ты мой, уж куда как плохо, коль жена в руководящий состав попадет, – обратился дед Игнат к Федору. – Мне и пол мести, и печь топить, беда прямо…
– Сознавайся уж подчистую, чего там скрывать! Ты у меня и корову обиходишь, и тесто ставишь… Научился. Такие пряженики печет, что куда там мне! Только ленив: пока стопочку не посулишь, пальцем не шевельнет. Иной раз черствой корки в доме не сыщешь. И талант вроде к домовитости есть, да бабьей охотки недостает.
Грубая, резкая Варвара словно размякла дома, голос густоватый, ворчливый, добрый.
– Чего-сь, не сбегать ли мне, Варварушка? – напомнил старик.
– Рад, старый греховодник. Беги уж. Только быстро.
– Сама знаешь, сызмала прыток на ногу.
– На что, на что – на это дело тебе прыти не занимать.
Дед Игнат порылся за печью, достал пустую бутылку, сунул ее в карман, лукаво подмигнул Федору, скрылся.
«Сейчас, верно, расспрашивать начнет, что да как?.. Неспроста же позвала…» – подумал Федор, когда они остались наедине.
Но тетка Варвара и не думала расспрашивать, она сама стала рассказывать о себе.
– Вот, говорят, плохо руковожу… А что тут удивляться? Я ведь баба необразованная. Видишь, книжки в доме держу, тянусь за другими, а ухватка-то на науку немолодая…
Дед Игнат в самом деле оказался прыток на ногу.
– Вот как мы! – заявил он, появляясь в дверях, и засуетился, забегал от погребца к столу.
Сели за стол.
– Ох, зло наше! – неискренне вздохнул дед Игнат перед налитой стопочкой.
– А себе-то что? – спросил Федор тетку Варвару.
– Уж не неволь.
– Мы сами, мы сами… Она и так посидит, за компанию. За твое здоровье, племянничек! Ведь ты вроде того мне, хоть и коленце наше далекое.
Пошел обычный застольный разговор обо всем: о семенах, о севе, о подвозе горючего, о нехватке рабочих рук.
– В сев-то еще ничего, обходимся. А вот сенокосы начнутся! Наши сенокосы в лесах, наполовину приходится не косилками, а по старинке косой-матушкой орудовать. Вот когда запоем – нету народу, рук нехватка! Привычная для нас эта песня… Нам бы поднатужиться, трудодень поувесистей дать, глядишь, те, кто ушел, обратно повернули бы. Толкую, толкую об этом – нажмем, постараемся, кто-то слушает, а кто-то и умом не ведет. Есть люди – дальше своего двора и знать не хотят. Мякина в чистом помоле.
– На моих, верно, намекаешь? – спросил Федор.
– К чему тут намекать? Ты и сам без меня видишь… Эх, Федюха, Федюха, молодецкая голова, да зеленая! Ошибся ты малость. Зачем тебе было к Ряшкиным лезть? Уж коль взяла тебя за душу стать Степанидина, так отрывай ее от родного пристанища. Одну-то ее, пожалуй бы, и настроил на свой лад. Ты – к ним залез, всех троих не осилишь. Тебя б самого не перекрасили…
Федор молчал.
– Силан-то не из богатеев. До богатства подняться смекалки не хватало, а может, и жадность мешала. Жадность при среднем умишке не всегда на богатство помощница. Чтоб богатство добыть, риск нужен, а жадность риск душит. А уж жаден Силан: под себя сходит да посмотрит, нельзя ли на квас переделать. Прости, я попросту… Вот такие-то силаны при организации колхозов ой как тяжелы были!.. Середняк, с виду свой человек, а нутро-то кулацкое, вражье! Теперь-то вроде не враги, а мешают. Вот уж истинно – бородавки. Боли от них особой нет, а досаждают.
– Ты так говоришь, что мне одно осталось – пойти да поклониться: бывайте здоровы.
– Нет, на то не толкаю. Попробуй вырви зуб из гнилых десен. Только вначале надо было это сделать. Теперь-то скрывать нечего, трудненько. Ведь я знаю: получил нагоняй от Стешки, что лошадь у отца отобрал. Веры-то у нее к родителям больше, чем к тебе… Для того я все это говорю, парень, чтоб не обернулось как бы по присловью: «С волками жить – по-волчьи выть». Воюй!
– Боюсь, что отвоевался. Нехорошо у нас этой ночью получилось, вспоминать стыдно.
– Понятно, не без того… Особо-то не казнись, к сердцу лишка не бери. Хочешь счастья – ломай, упрямо ломай, а душу-то заморозь, зря ей гореть не давай.
Молчавший дед Игнат, хоть и с интересом вслушивавшийся в разговор, однако недовольный тем, что с разговором забыта и бутылка, произнес:
– Обомнется, дело семейное, не горюй!.. Ну-кось, выпьем по маленькой.
– А ты, – повернулась к нему тетка Варвара, – хоть словечко по деревне пустишь, смотри у меня!.. У тебя ведь с бабьей работой и привычки бабьи объявились, есть грешок – посплетничать любишь. Сваха бородатая!
– Эх, Варька, Варька! Да разве я?.. Язык у тебя, ей-бо, пакостней не сыщешь.
– Ладно! У человека – горе.
– Я ему друг или нет? Ты мне скажи: кто я тебе? – У деда уже заговорил хмелек.
В синее вечернее окно осторожно стукнули с воли.
– Кто это там? Не твои ли, Федор? Мои-то гости по окнам не стучат, прямо в дверь ломятся. – Тетка Варвара поднялась, через минуту вернулась, кивнула коротко Федору: – За тобой, иди.
У окна, прислонившись головой к бревенчатой стене, стояла Стеша. И хотя вечер был теплый, она зябко куталась в свой белый шерстяной полушалок.
Ни слова не обронили они, торопливо пошли прочь от председательского дома. И только когда завернули за угол, скрылись от окон тетки Варвары, оба замедлили шаг. Федор понял – сейчас начнется разговор. Он поднял взгляд на жену. С лица у нее сбежал румянец, глаза красные, заплаканные, но в эту минуту блестят сухо.