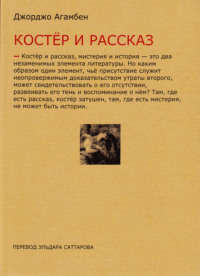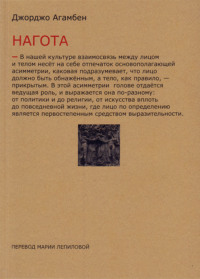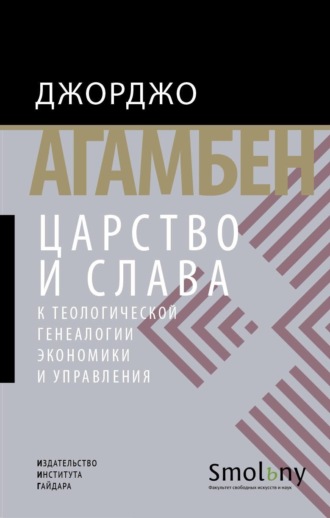
Полная версия
Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления
Гегелевская диалектика обнаруживает в этом отрывке свою теологическую парадигму: достаточно поместить в центр этого триадического движения силу отрицания («то, что не есть»), чтобы получить гегелевское положение об основании.
Парадокс тринитарной экономики, которая должна сохранять единство того, что она разделила, находит очевидное выражение и у другого каппадокийского богослова, Григория Нисского. В своем «Большом катехизисе» он утверждает, что и греки, и евреи могут признать существование Божьего логоса и пневмы; но «и те, и другие одинаковым образом отвергнут как нечто неправдоподобное и неподобающее рассуждению о Боге» именно «домостроительство[71] по человеку Слова Божьего» [tēn de kata anthrōpon oikonomian tou theu logou]. Ибо оно означает, тут же добавляет Григорий, что под вопросом оказывается не просто какая-либо способность (hexis), как то слово или знание Божье, но «сила, пребывающая по существу и по сущности [kat' ousian… yphestōsa dynamis]» (Greg. Nys., Or. cat., 5. P. 161). Таким образом, функция тринитарной экономики заключается в том, чтобы гипостазировать Божий логос и праксис, дав им реальное существование – и одновременно установить, что это гипостазирование не разделяет целого, но «устрояет»[72] его (каппадокийцы одними из первых стратегически используют в этом значении неоплатонический термин hypostasis – в данном случае в его глагольной форме hyphistamai).
У Маркелла Анкирского, автора IV века, чья «экономическая теология» привлекла особое внимание современных исследователей, отчетливо видно, что связь между экономикой и сущностью понималась как противопоставление между действием (energeia) и природой (physis). Если божественная природа остается монадической и неразделимой, то это связано с тем, что Логос разделяется лишь в действии (energeia monē). Поэтому экономика по плоти (или, как он выразился, вторая экономика) носит, так сказать, временный характер: она завершится Парусией, когда Христос низложит всех врагов под ноги Свои (1 Кор. 15:25). Подобным же образом Маркелл может говорить о том, что Слово через воплощение стало сыном Адамовым kat' oikonomian, а мы являемся таковыми kata physin (Seibt. 1994. P. 316).
ℵ Теологический раскол между бытием и праксисом продолжает вызывать споры в византийском богословии и в XIV веке: эти споры разделили Григория Паламу и Варлаама с Прохором. Так, афониты в своем вероисповедании исходят из открытого противопоставления между бытием Бога (усией) и его действием (energeia): «Мы подвергаем анафеме тех, кто утверждает, будто божественная сущность и действие Божье суть одно и то же, что они едины и неразделимы. Кроме того, я полагаю, что действие и сущность Божьи несотворены [aktiston]» (Rigo. P. 144).
3.4. Разрыв между бытием и праксисом в языке Святых Отцов принимает форму терминологической оппозиции между теологией и ойкономией. Это противопоставление как таковое еще отсутствует у Ипполита, у Тертуллиана и у Климента Александрийского: тем не менее, как мы видели, оно предвосхищено у них в разграничении между dynamis и ойкономией (так, в «„Exerpta“ Климента каждый ангел наделен своим dynamis и своей ойкономией»: I, II, 4). У Евсевия Кесарийского эта антитеза уже полностью выработана, хотя речь не идет о полноценном противопоставлении, что позволяет ему заявить во вступлении к своей «Церковной истории» о двух топосах, на которых строится единое рассуждение:
Изложение мое начнется с экономики и богословия Христова: по глубине и силе они выше человеческих. Собирающийся писать историю наставлений церковных обязан начать с первого домостроительства [oikonomia] согласно самому Христу, ведь от него удостоились мы получить и свое имя – домостроительства более божественного, чем кажется многим. [Eus. H. E., I, 1, 7–8.]
Терминологическое разграничение соответствует у Евсевия различию между божественной и человеческой природой Христа, которое он уподобляет разнице между головой (kephalē) и ногами:
Природа Христа двойная: одна похожа на голову тела – в ней признаём мы Бога; другую можно сравнить с ногами – Он облекся в нее ради нашего спасения, дабы стать человеком столь же подверженным страстям, как мы… [Ibid. I, 2, 1.]
Начиная с каппадокийцев – в частности с Григория Назианзина – оппозиция теология/ойкономия обретает технический характер, обозначая теперь не только две различных сферы (природа и сущность Бога с одной стороны, и его искупительное дело с другой: бытие и праксис), но и два различных дискурса, два типа рациональности, каждый из которых наделен своей собственной понятийностью и своей особой спецификой. Иными словами, вокруг Христа разворачиваются два logoi, первый из которых касается его божественной природы, а второй – экономики воплощения и спасения. Каждый дискурс, каждая рациональность имеет свою собственную терминологию, и, чтобы верно их истолковывать, их не следует смешивать:
Вообще же выражения более возвышенные относи к Божественности и к природе, которая выше страданий и тела; а выражения более унизительные – к Тому, Кто Сложен, за тебя истощил Себя и воплотился, чтоб хуже не сказать – очеловечился, потом же превознесен, чтоб ты, истребив в догматах своих все плотское и земное, научился восходить умом к Божеству и, не останавливаясь на видимом, возносился посредством мысленного и знал, где речь о природе Божией и где об Его домостроительстве. [Greg. Naz. Or., XXIX, 18. P. 714].
Различие между двумя рациональностями вновь заявлено в Слове, посвященном празднику Рождества; сославшись на непознаваемость и бесконечность Бога, Григорий пишет:
Этим да ограничится ныне наше размышление о Боге; ибо нет времени более распространяться и предмет моего слова составляет не теология, но экономика. [Ibid. XXXVIII, 5. P. 886.]
Примерно полвека спустя Феодорит Кирский выкажет полную осведомленность по поводу различия и одновременной взаимосочлененности этих двух рациональностей. «Нам необходимо знать, – пишет он, – какие термины принадлежат области теологии, а какие – области экономики» (ad Heb., 4, 14; см. Gass. Р. 490); если эти два logoi смешаются, под угрозой окажется целостность экономики и возникнет риск впадения в монофизитскую ересь. Притом что необходимо избегать любого неправомерного переноса категорий одной рациональности в поле другой («Не следует переносить в область экономики то, что принадлежит теологии», как напишет Иоанн Дамаскин в De fid. Orth., 3, 15), две рациональности все же остаются связанными, и четкое разграничение между двумя дискурсами не должно оборачиваться сущностным разрывом. Тщательность, с которой Святые Отцы стараются не смешивать между собой и в то же время сохранять связанными два единства, свидетельствует о том, что они осознают риски, которые таит в себе их гетерогенность. Так, в споре с воображаемым представителем монофизитства в «Эранисте» Феодорит утверждает, что Святые Отцы «хотели передать нам два единства – теологическое и экономическое – в их неразделимости, чтобы мы не думали, будто первое есть лик божественный, а второе – лик человеческий» (Theodoret. Eran., P. 228).
Проводимое в патристике разграничение между теологией и экономикой настолько устойчиво, что его можно обнаружить у современных теологов в виде оппозиции имманентной Троицы и Троицы экономической. Первая отсылает к Богу в его бытии-в-себе и потому также называется «сущностной»; вторая же означает Бога в его отношении к делу искупления, через которое он открывается людям (поэтому ее также называют «Троицей откровения»). Сочленение этих двух троиц, различных и в то же время неразделимых, составляет апоретическую задачу, которую тринитарная экономика оставляет в наследие христианской теологии, в особенности – учению о провиденциальном управлении миром, предстающему в этой связи как биполярная машина, единство которой постоянно рискует распасться и каждый раз должно быть завоевано заново.
3.5. Радикальное разделение и вместе с тем необходимое единение теологии и экономики, возможно, нигде так ярко не проявилось, как в спорах вокруг монофелитства, разделивших Святых Отцов в VII веке. Существует текст, в котором полностью проясняется стратегический смысл этого сложного сочленения: речь идет о «Диспуте с Пирром» Максима Исповедника. Согласно монофелитам, манифестом которых является «Эктезис» Ираклия (638), предстающего в диалоге в роли Пирра, у Христа две природы, но единая воля (thelēsis) и единая деятельность (energeia), «которая направлена на выполнение как божественных дел, так и дел человеческих» (Simonetti, P. 516). Монофелиты опасаются того, что доведенный до крайности диофизитизм приведет в конечном итоге к расколу в экономике – то есть в божественном праксисе, полагая в Христе «две воли, которые противоположены друг другу, будто божественное Слово желает привести в жизнь искупительное страдание, а человеческая его часть препятствует и противостоит его воле» (Ibid. P. 518). Поэтому Максиму, утверждающему, что двум природам в Христе могут соответствовать лишь две воли и два различных действия, Пирр отвечает, что «это говорилось Святыми Отцами согласно теологии, а не согласно экономике. Недостойно мысли, любящей истину, переносить в область экономики то, что утверждалось согласно теологии, создавая подобную нелепицу» (PG, 91, 348).
Ответ Максима категоричен и свидетельствует о том, что сочленение двух дискурсов является частью проблемы, во всех смыслах определяющей. Если то, что было сказано Святыми Отцами по поводу теологии, пишет он, не относилось бы также и к экономике, «то после воплощения Сын не подлежал бы теологическому рассмотрению [syntheologeitai] вместе с Отцом. А ежели этого не происходит, его имя не может звучать во время призывания Святого Духа при крещении; а значит, вера и проповедь будут тщетными» (Ibid.). В другом своем сочинении Максим, подчеркивая неразделимость теологии и экономики, утверждает следующее: «Воплощенное [то есть представляющее экономику] Слово Божье обучает теологии» (PG, 90, 876).
Неудивительно, что радикальный «экономизм», который, различая в сыне две воли, ставит под угрозу само единство христологического субъекта, нуждается в утверждении единства теологии и экономики, – тогда как «теологизм», который пытается любой ценой удержать это единство, решительно противопоставляет два дискурса. Различение между двумя рациональностями непрерывно пересекает область теологических диспутов, и, подобно тому, как тринитарный догмат и христология сформировались одновременно и не могут быть разделены, так и теология и экономика не могут быть разграничены. Две природы, согласно стереотипной формуле, сосуществуют в Христе «без разделения и без смешения» (adiairetos kai asynchytos): точно так же два дискурса должны совпадать не смешиваясь – и различаться не разделяясь. Ведь на кону в их отношениях не только цезура между человечностью и божественностью в Сыне, но и в более широком плане – разрыв между бытием и праксисом. Экономическая рациональность и рациональность теологическая должны действовать, если можно так выразиться, «в разделяющем согласии» так, чтобы не отрицалась экономика Cына и чтобы при этом не был допущен сущностный раскол в Боге.
И все же экономическая рациональность, через которую христология получила свою первую, неточную формулировку, будет непрестанно отбрасывать свою тень на теологию. После того как вокабуляр гомоусии и гомоиусии[73], ипостаси и природы почти окончательно подменит собой первую формулировку догмата о Троице, экономическая рациональность со своей прагматико-управленческой, а не научно-онтологической парадигмой будет продолжать скрыто действовать в качестве силы, стремящейся подорвать и разрушить единство онтологии и праксиса, божественности и человечности.
ℵ Разрыв между бытием и действием и анархический характер божественной ойкономии являют собой логическое место, в котором проясняется сущностное отношение, связывающее в нашей культуре управление и анархию. Не только нечто вроде провиденциального управления миром возможно лишь потому, что действие не имеет никакого основания в бытии; но и само это управление, которое, как мы увидим, имеет свою парадигму в Сыне и в его ойкономии, глубоко анархично. Анархия есть нечто такое, что управление должно предположить и присвоить в качестве собственного истока – и в то же время в качестве цели, к которой направлено движение. (Беньямин в данном смысле был прав, когда писал о том, что нет ничего более анархичного, чем буржуазный порядок; а реплика, которую Пазолини вкладывает в уста одного из сановников в фильме «Сало», – «Единственная подлинная анархия – это анархия власти», – не несет в себе и тени иронии.)
Отсюда несостоятельность попытки Райнера Шюрмана, предпринятой в его все же знаковой книге «Принцип анархии», помыслить «экономику анархическую», то есть безоснóвную, в перспективе преодоления метафизики и истории бытия. Среди постхайдеггерианских философов Шюрман единственный, кто понял связь, объединяющую теологический концепт ойкономии (который он, однако, оставил без внимания), проблему онтологии, и в особенности хайдеггерианское прочтение онтологического различия и «эпохальной» структуры истории бытия. Именно в этой перспективе он пытается помыслить праксис и историю без какого-либо основания в бытии (то есть совершенно ан-архическим образом). Но онтотеология всегда уже мыслит божественное действие как необоснованное в бытии и, по сути дела, задается целью выявить сочленение между тем, что она всегда разделяла. Иначе говоря, ойкономия всегда уже анархична, лишена основания, а переосмысление проблемы анархии в нашей политической традиции становится возможным лишь исходя из осознания скрытой теологической связи, объединяющей ее с управлением и с провидением. Управленческая парадигма, генеалогию которой мы здесь выстраиваем, в действительности изначально является «анархо-управленческой».
Это не означает, что за пределами управления и анархии невозможно помыслить Неуправляемое – то есть нечто такое, что никогда не сможет принять форму той или иной ойкономии.
Порог
На закате классической культуры, когда единство античного космоса разрушается, а пути бытия и действия, онтологии и праксиса будто бы окончательно расходятся, мы наблюдаем, как в лоне христианской теологии вырабатывается сложное учение, в котором сочетаются элементы иудаизма и язычества, – учение, силящееся осмыслить этот разрыв и вместе с тем восполнить его посредством управленческой и не-научной [non-epistemico. – Примеч. пер.] парадигмы, которой и является ойкономия. Согласно этой парадигме, божественное действие, от сотворения мира до искупления, не имеет основания в бытии Бога и до такой степени расходится с ним, что осуществляется в отдельном лице – в Слове или в Сыне; тем не менее, это анархичное и безоснóвное действие должно каким-то образом согласовываться с единством сущности. С помощью идеи свободного и добровольного действия, объединяющего в себе творение и искупление, эта парадигма должна была преодолеть как гностическую антитезу между чуждым миру богом и творцом-демиургом и правителем мира, так и присущее язычеству тождество между бытием и действием, которое делало малоубедительной саму идею творения. Вызов, который христианская теология таким образом бросает гнозису, состоит в том, чтобы увязать трансцендентность Бога и сотворение мира, а также непричастность Бога к миру и стоическое и иудаистское представление о Боге, который заботится о мире и осуществляет над ним провиденциальное управление. Перед лицом этой апоретической задачи ойкономия в ее управленческом и административном истоке предлагала гибкий инструмент, который представал одновременно как логос, рациональность, избавленная от каких бы то ни было внешних уз, и как действие, не обусловленное какой бы то ни было онтологической необходимостью или предзаданной нормой. Являясь одновременно дискурсом и реальностью, не-научным знанием и анархичным действием, ойкономия на протяжении многих веков позволяла теологам определять то принципиально новое, что несла в себе христианская вера, и в то же время сочетать в ней плоды позднеантичной, стоической и неопифагорийской мысли, уже ориентированной в «экономическом» направлении. Именно в лоне этой парадигмы сформировались узловые моменты тринитарной догматики и христологии: от этого своего истока они так и не освободились окончательно, продолжая отдавать дань как его апориям, так и его преимуществам.
Таким образом, становится понятно, в каком смысле возможно говорить о том, что христианская теология с самых своих истоков является экономико-управленческой, а не политико-государственной: именно таков тезис, от которого мы отталкиваемся в полемике со Шмиттом. Что христианская теология содержит в себе экономику, а не только политику, все же не означает, что ее значение для истории идей и политических практик на Западе маловажно; напротив, теолого-экономическая парадигма обязывает заново переосмыслить таковую историю в новой перспективе c учетом ключевых моментов пересечения политической традиции в узком смысле с традицией «экономико-управленческой», которая, ко всему прочему, как мы увидим, обретает наиболее полное выражение в средневековых трактатах de gubernatione mundi[74]. Две парадигмы существуют бок о бок и пересекаются друг с другом таким образом, что формируют собой биполярную систему, понимание которой оказывается предпосылкой к любой попытке истолкования политической истории Запада.
В своей объемной монографии о Тертуллиане Муант в одном месте справедливо указывает на то, что наиболее точным переводом выражения unicus deus cum sua oikonomia – и, возможно, единственным, способным обнять разные значения термина «экономика», – является «единый Бог со своим правительством[75], в том смысле, в котором „правительство“ означает министров короля, чья власть которых в распространении королевского могущества, не являясь ему равноценной, хотя при этом она необходима для его проявления»; понятая таким образом, «экономика означает способ управления посредством множественности проявлений божественного могущества» (Moingt. P. 923). В этом своем изначальном «управленческом» значении аполитическая парадигма экономики обнаруживает, помимо прочего, и свои политические импликации. Разрыв между теологией и ойкономией, между бытием и действием, делая свободным и «анархичным» праксис, по сути, одновременно утверждает возможность и необходимость управления этим праксисом.
В исторический момент, когда имел место кризис классической системы представлений – как в политическом, так и в онтологическом плане, – гармония трансцендентного вечного начала и имманентного миропорядка разрушается и проблема «управления» миром и его легитимации становится во всех смыслах основополагающей политической проблемой.
4. Царство и правление
4.1. Один из самых запоминающихся образов в цикле романов о рыцарях Круглого стола – образ Roi mehaignié, раненого или изувеченного короля (слово mehaignié соответствует итальянскому magagnato[76]), который правит terre gaste, опустошенной землей, «где пшено не растет, а деревья не дают плодов». Согласно Кретьену де Труа, во время сражения король был ранен в пах и изувечен до такой степени, что не был в состоянии держаться на ногах и ездить верхом. Поэтому, когда он хотел предаться досугу, он приказывал своим слугам поместить его в лодку и отправлялся удить рыбу (отсюда прозвище Король-рыбак), пока его сокольничие, лучники и охотники хозяйничали в его лесах. Дело, однако, идет о некоей диковинной рыбалке: ниже Кретьен уточняет, что король уже пятнадцать лет не покидает своих покоев и питается гостией, которую ему подают в святом Граале. Согласно другому, не менее авторитетному источнику, напоминающему кафкианский сюжет об охотнике Гракхе, во время охоты в лесу король потерял своих собак и охотников. Добравшись до берега моря, он обнаружил на корабле сверкающий меч: в тот момент, когда он пытался вытащить его из ножен, по какому-то магическому стечению обстоятельств он оказался поражен в пах копьем.
Как бы то ни было, изувеченный король исцелится лишь тогда, когда Галахэд в конце quête[77] смажет его рану кровью с копья, пронзившего бок Христа.
Образ изувеченного и немощного короля получил самые разнообразные толкования. В своей книге, оказавшей значительное влияние не только на артурианские исследования, но и на поэзию ХХ века, Джесси Уэстон связывает образ Короля-рыбака с «божественным началом жизни и плодородия», с тем самым «Духом Растительности», который автор, вслед за Фрезером и англосаксонскими фольклористами, с немалой долей эклектизма обнаруживает в ритуалах и мифологических образах, восходящих к самым разнообразным культурным традициям, – от вавилонского Таммуза до греко-финикийского Адона.
Во всех этих толкованиях в тени остается тот факт, что легенда, помимо всего прочего, несомненно содержит в себе подлинно политическую мифологему, которая без особых натяжек может быть истолкована как парадигма разделенной и бессильной верховной власти. Ничуть не утратив своей легитимности и сакральности, король действительно по какой-то причине оказался отделен от своих полномочий и дел, доведенный до бессилия. Он не только не может охотиться или ездить верхом (занятия, которые, по всей видимости, символизируют здесь светскую власть), но вынужден оставаться взаперти в своих покоях, пока его министры (сокольничие, лучники и охотники) осуществляют управление от его имени и вместо него. В этом смысле раскол верховной власти, воплощенный в образе короля-рыбака, будто бы отсылает к дуальности, которую Бенвенист усматривает в индоевропейском институте царской власти, между функцией преимущественно религиозно-магической и функцией непосредственно политической. Однако в легендах о Граале акцент скорее делается на бездеятельном и отделенном характере изувеченного короля, который – по крайней мере до тех пор, пока его не исцелит прикосновение магического копья, – исключен из всякой конкретной деятельности, связанной с правлением. Roi mehaignié, стало быть, являет собой своего рода прообраз современного правителя, который «царствует, но не правит»; и в этом плане легенда, возможно, заключает в себе смысл, который касается нас более непосредственным образом.
4.2. Прежде чем обратиться к проблеме божественной монархии в начале своей книги «Монотеизм как политическая проблема», Петерсон дает краткий анализ псевдоаристотелевского трактата «О мире», в котором он видит нечто вроде переходного звена между аристотелевской политикой и иудаистской концепцией божественной монархии. Если у Аристотеля Бог представлен как трансцендентное начало всякого движения, которое правит миром подобно тому, как стратег ведет свою армию, – то здесь, по наблюдению Петерсона, Бог уподобляется кукловоду, который, оставаясь невидимым и дергая за нитки, приводит в движение свою куклу, – или же великому царю персов, который, скрываясь в своем дворце, правит миром посредством бесчисленных иерархий министров и чиновников.
Первостепенным в отношении образа божественной монархии здесь является не вопрос о том, наделена ли она одной или несколькими властями (Gewalten), но вопрос о том, причастен ли Господь силам [Mächten], которые действуют в космосе. Автор хочет сказать следующее: Бог есть предпосылка к тому, чтобы сила (он пользуется термином из стоической терминологии dynamis, но имеет в виду аристотелевское kynesis) действовала в космосе, но именно по этой причине он сам не является силой: le roi regne, mais il ne gouverne pas[78]. [Peterson 1. P. 27.]
По мысли Петерсона, в псевдоаристотелевском трактате метафизико-теологические и политические парадигмы тесно переплетены между собой. Окончательное оформление метафизического образа мира, – пишет он, почти буквально воспроизводя тезис Шмитта, – всегда обусловлено политическим решением. В этом смысле «различие между Macht (potestas, dynamis) и Gewalt (archē), которое автор трактата постулирует в отношении Бога, представляет собой метафизико-политическую проблему», которая может принимать различные формы и значения и быть развернута как в направлении разграничения между auctoritas и potestas, так и в направлении гностического противопоставления бога и демиурга.