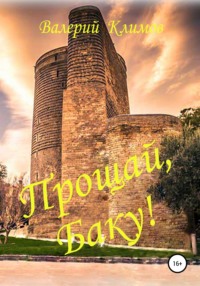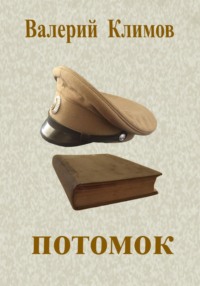Полная версия
Золотые погоны империи
Шампанское и деньги лились рекой, и всё это сопровождалось пьяными выкриками, типа: «Французы должны знать, как умеют гулять русские офицеры!»…
Меня немного утешало лишь то, что лично я тоже, так толком, и не перекусил в этот прошедший сверх суматошный день, так как, по прибытии из лагеря в город, я сначала потратил весь остаток светового дня на осмотр достопримечательностей Марселя и лишь только потом присоединился к своим празднующим товарищам.
Кстати, наибольшее впечатление, в моей одиночной экскурсии по этому древнему средиземноморскому городу, на меня произвели собор Нотр-Дам де ля Гард, находящийся на самом высоком городском холме (с которого открывалась захватывающая дух панорама Марсельского залива и всего города, расположенного многочисленными ярусами на прибрежных холмах, как бы отделяющих его от остальной территории страны), и самая оживлённая городская магистраль Ла Канабьер, которая, визуально, словно опускалась своей нижней частью в прибрежную гладь Средиземного моря, воплощая, тем самым, наяву древний миф о Марселе, как о «Вратах Востока». Остальные же местные достопримечательности, как, впрочем, и вечер в здешнем кабаке – меня, честно говоря, особо не изумили, хотя и впечатление, в целом, не испортили.
Жаль только, что это хорошее, в принципе, настроение от удачно прошедшего дня оказалось сильно «смазанным» инцидентом с задержкой питания наших нижних чинов…
Но, впрочем, все мои радостные и не очень переживания закончились довольно быстро. Уже на следующий день нас стали, эшелонами, отправлять в провинцию Шампань в специально подготовленный учебный лагерь «Мальи», расположенный недалеко от Парижа, и новые хлопоты, связанные с этим переездом, постепенно затмили собой воспоминания о первом дне нашего пребывания во Франции.
Глава 2. Лагерь «Мальи»
В лагерь «Мальи» подразделения нашей 1-й Особой пехотной бригады прибывали из Марселя в течение целой недели, с двадцать второго по двадцать восьмое апреля одна тысяча девятьсот шестнадцатого года, и сразу же, по прибытии на место, получали оружие и необходимую материальную часть.
Сам лагерь представлял собой довольно большой палаточный «городок», разбитый сразу несколькими новоявленными «улицами» и «переулками» на отдельные жилые «кварталы», образованные из расположенных, там, стройными рядами солдатских и офицерских палаток.
Весьма однообразную картину этого «городка» слегка скрашивали лишь редкие ветвистые деревья, безмятежно растущие между палатками, и ещё не вытоптанная трава, которая своим ярким зелёным цветом радовала глаз каждого прибывшего сюда военнослужащего.
По прибытии в лагерь последнего нашего подразделения вышел приказ французского генерала Гуро о зачислении 1-й Особой пехотной бригады в состав его 4-й армии, а точнее – в 17-й армейский корпус под командованием генерала со звучной фамилией «Дюма».
Из-за своей относительной малочисленности (десять тысяч человек) и недостаточной технической укомплектованности русская бригада не могла претендовать на более самостоятельный воинский статус отдельного армейского корпуса и, уж, тем более, армии. Поэтому она вполне закономерно вошла в состав одной из номерных французских армий и подчинилась в оперативном отношении французскому командующему фронтом, а в юридическом – российскому представителю нашего Верховного Главнокомандующего во Франции. Таким образом, русские войска имели, как бы, двойное подчинение.
Уже на месте, в лагере «Мальи», генерал Лохвицкий своей властью несколько реорганизовал подчинённую ему бригаду. Теперь каждый из её двух полков включал в себя три батальона (по четыре роты – каждый) и три пулемётные роты, а также – отдельную разведывательную команду в составе шестидесяти человек (чего не было, кстати, ни в одном полку русских войск, воюющих на Российско-Германском фронте).
Обмундирование у нас было своё (ещё перед нашей отправкой из России каждого из нас снабдили двумя новыми комплектами русской военной формы), но каски, уже в «Мальи», мы получили французские (образца Адриана), правда, с нарисованным на них двуглавым орлом, да, и погоны у нас, в отличие от воинских частей в России, были снабжены римскими цифрами (по номеру соответствующего полка).
Что же касается нашего вооружения, то французы снабдили нас своими трёхзарядными винтовками «Лебель М1 886/93» (калибра восемь миллиметров) и пулемётами французского образца (по двенадцать на каждую пулемётную роту). Но, при этом, кадровый офицерский состав нашей бригады мог, по прежнему, пользоваться своим личным оружием – револьверами системы «Нагана», всегда находившимися при нас.
Многих наших солдат сразу же направили учиться в учебный центр, находящийся в Шалоне, на краткосрочные курсы по овладению военными специальностями пулемётчика, снайпера, телефониста, сигнальщика и сапёра. Одновременно с этим, все солдаты и офицеры бригады принялись срочно изучать особенности французского фронта и методов ведения боя союзнической армией и участвовать в учебных стрельбах и практических занятиях на местных полигонах.
Реорганизация штатного расписания привела к переназначению некоторых офицеров. К моему удовольствию, я попал во второй батальон второго полка Особой бригады. Данный полк возглавлял печально известный своим самодурством и жестокостью по отношению к подчинённым полковник Дьяконов, но, зато, командиром второго батальона, в этом полку, был пользовавшийся огромной популярностью среди большинства солдат и офицеров бригады подполковник Готуа, строгий, но очень справедливый и порядочный боевой офицер.
К тому же, командиром пулемётной роты в нашем батальоне был назначен мой новый товарищ штабс-капитан Разумовский Михаил Иванович, тот самый Мишель, с которым мы вместе «делили все тяготы» переезда из России во Францию.
Мишель тоже был очень рад такому стечению обстоятельств. Обычно крайне выдержанный, он широко улыбнулся, услышав от меня эту новость, и долго тряс мою руку, поздравляя с назначением во второй батальон на должность командира 5-й строевой роты.
Нашими коллегами по батальону стали также поручик Орнаутов Петр Александрович, поручик Мореманов Сергей Петрович и поручик Лемешев Андрей Федорович – командиры 6-й, 7-й и 8-й строевой роты, соответственно.
Первых двух из них – поручиков Орнаутова и Мореманова – я заприметил ещё тогда, когда они покупали медвежонка на сибирской станции. Молодость и природное озорство не давали им спокойно существовать в окружающем их мире. Казалось, они никак не могут расстаться со своим славным юнкерским прошлым.
После окончания своих военных училищ, ещё за год до начала войны с Германией, Орнаутов и Мореманов были распределены в одну из резервных частей в российской глубинке, где и «проболтались» два минувших года до получения чина поручика, после чего, всё-таки, добились (путем написания многочисленных просьб о переводе их в действующую армию) направления в Русский Экспедиционный Корпус (а, точнее – в состав 1-й Особой пехотной бригады).
Орнаутов Пётр или Пьер, как мы его стали называть в своём кругу (по примеру его друга Мореманова), двадцати одного года от роду, был потомственным дворянином из семьи военных. Выпускник Пажеского корпуса, одного из самых престижных военных учебных заведений не только Санкт-Петербурга, но и всей Российской Империи, он был лишён заносчивости, свойственной большинству «пажей» или «шаркунов» (как окрестили в военной среде обитателей учебного заведения). В его облике было что-то романтическое, но, одновременно, и невероятно мужественное. Неплохо владея французским языком и гитарой, Пьер покорил нас своим первым же исполнением романса, во время которого он весьма изящно переходил с русского на французский язык и обратно.
Под стать ему был и его друг Мореманов Сергей или Серж, как мы стали его называть (по примеру уже названного Орнаутова). Он тоже был потомственным дворянином из семьи военных, двадцати одного года от роду, но являлся выпускником другого, не менее престижного столичного военного учебного заведения – Павловского военного пехотного училища, то есть был типичным «павлоном» (как называли в офицерском «обиходе» обучавшихся в данном училище юнкеров).
Серж был настоящий «гусар» (в народном понимании этого слова). Отчаянный до безрассудства, вспыльчивый и отходчивый одновременно, он являлся, тем не менее, блестящим пехотным офицером, собственным примером подтверждающим высочайшую репутацию своего родного училища, известного на всю Россию тем, что именно здесь готовили лучших строевых офицеров Русской армии. Серж не обладал музыкальным талантом своего друга, но, «на голову», превосходил всех нас в знании французского языка. Благодаря довольно большому периоду своего детства, проведённого с родителями, сначала, во французском кантоне в Швейцарии, а затем, и в самой Франции, он владел французским языком не хуже любого коренного парижанина. Отличный стрелок и неисправимый картёжник, надёжный товарищ и дамский угодник – это всё он – Мореманов, любимец сослуживцев и «головная боль» его отцов-командиров.
На фоне этих двух ярких образов молодого офицерства несколько будничным выглядел ещё один мой новый товарищ – двадцатитрёхлетний поручик Андрей Лемешев или Андрэ (как его, вслед за Моремановым и Орнаутовым, стали называть и я с Разумовским). Выпускник Алексеевского военного училища, успевший послужить в нынешнее военное время непосредственно на передовой, он сохранил какую-то гражданскую «обыденность» своего облика в любой жизненной ситуации: в быту, в службе и на отдыхе. Несмотря ни на какие «передряги», Лемешев всегда сохранял хороший аппетит, глубокий сон и врождённый оптимизм. Да, и в жизни его, по-моему, интересовало лишь то, что прямо или косвенно могло касаться его самого или его планов на будущее. Но, при всём – при этом, он был весьма хорошим и заботливым товарищем с начисто отсутствующим чувством страха.
Помимо нас и других кадровых офицеров, в полку были ещё и так называемые «офицеры военного времени»: учителя, студенты, нижние чины из числа вольноопределяющихся и другие лица с необходимым уровнем образования, окончившие в ускоренном порядке (за три-четыре месяца) юнкерские училища и направленные в действующую армию в младшем офицерском чине – чине прапорщика, погоны которых украшала одна единственная звёздочка на одиночном продольном просвете. Они, как правило, занимали должности командиров взводов, «технических специалистов» или штабных адъютантов.
Наиболее яркой личностью из них, по моим наблюдениям в первые дни нашего пребывания в «Мальи», был адъютант нашего командира полка – двадцатилетний прапорщик Рохлинский Валерий Алексеевич – тот самый прапорщик, который трижды возглавлял «чужие» роты во время церемониального марша в Марселе. Он был типичным представителем офицеров военного времени. Скромный, начитанный юноша (из семьи инженера-путейца), окончивший два курса Петроградского института путей сообщений, поступил добровольцем в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков (слывшую, в народе, «студенческой»), после окончания которой и был сразу направлен в нашу, тогда, ещё только формирующуюся 1-ю Особую пехотную бригаду. Выделялся же он, среди прочих, своей исключительной способностью разбираться в любой технике, природной сообразительностью и врождённой порядочностью.
Вот, такое разномастное офицерское сообщество я получил в свои товарищи накануне грядущих боевых действий.
Первый месяц нашего пребывания в «Мальи» оказался весьма суматошным. Руководство Особой бригады, по прежнему, уделяло главное внимание демонстрации внешнего лоска русских войск в ущерб их боевой подготовке.
За этот месяц два наших полка участвовали, аж, в восемнадцати парадах, на которых, как правило, присутствовали либо российский представитель Верховного Командования при Французских вооружённых силах генерал Жилинский, либо французский генерал Гуро, либо сам президент Франции Пуанкаре.
В связи с этим, в бригаде усилилась муштра нижних чинов. Недовольных ею подвергали телесным наказаниям, а, проще говоря – элементарной порке (из соседних сосновых рощиц, вокруг которых производились занятия подразделений нашей бригады, весьма часто доносились болезненные вскрики подвергаемых подобной экзекуции людей), что не лучшим образом сказывалось на моральном состоянии наших солдат.
А, однажды, я сам оказался невольным свидетелем разговора на эту тему между генералом Лохвицким и графом Игнатьевым.
Последний, ссылаясь на слухи, циркулирующие в Гран Кю Же (французском Генеральном штабе), задал Лохвицкому прямой вопрос:
– Неужели, Николай Александрович, вы всё ещё допускаете порку наших солдат?
– Ну, конечно, – нисколько не смущаясь, ответил ему Лохвицкий. – Вам, граф, вероятно, просто неизвестен секретный приказ великого князя Николая Николаевича, предлагающий заменить, на время войны, строгий и усиленный аресты солдат их телесным наказанием.
– Но, поймите, – пытался Игнатьев убедить Лохвицого, – мне не под силу отделить «китайской стеной» Ваши методы поддержания дисциплины среди солдат вверенной Вам бригады от глаз военнослужащих республиканской Франции, и Вам необходимо с этим считаться. К тому же, серьёзное недовольство у наших солдат вызывает разница во взглядах на войну у русского, то есть, Вашего, Николай Александрович, руководства и французского командования. К примеру, что может быть дороже для всякого человека на фронте, чем краткосрочный отпуск в тыл? Во французской армии порядок увольнения в отпуск – единый, от главнокомандующего до рядового, и при этом, неукоснительно соблюдающийся. А Вы – заперли своих солдат в лагере «Мальи» и никуда их, отсюда, не выпускаете. И это, в то время, когда Ваши офицеры, чуть ли не ежедневно, ездят на казённых французских автомобилях в Париж, а Ваш командир первого полка полковник Нечволодов каждый вечер демонстративно восседает со своими офицерами в литерной ложе театра «Фоли – Бержер».
– Солдат, ни под каким предлогом, отпускать в город я не намерен, – заявил ему в ответ Лохвицкий. – Париж полон русских революционеров, и контакт моих солдат с ними недопустим. А, что касается Нечволодова, то он всё делает совершенно правильно. Пусть наши офицеры лучше осваивают театры, чем погружаются в зловредную парижскую политическую атмосферу.
Дальнейшего их разговора я уже не услышал, так как старший адъютант штаба Особой бригады капитан Регин, которого я ожидал в помещении штаба, вернулся из какой-то вынужденной поездки и, войдя в приёмную, первым же делом, плотно закрыл дверь кабинета Лохвицкого, в котором происходила его вышеупомянутая встреча с Игнатьевым.
Я быстро решил с ним некоторые организационные вопросы, касающиеся особой роли моей роты в очередном параде, и мы разошлись.
Батюшин был прав: моё общение с Региным складывалось, на редкость, легко. Он, действительно, был очень умным и грамотным (в военном отношении) офицером, с первого взгляда понимавшим сущность любого вопроса и моментально выдававшим действенные советы по его решению. Чрезвычайно корректный, всегда подтянутый и располагающий к себе, капитан Регин, с первых дней моего появления в бригаде, установил со мной приятельские отношения. Этому способствовало, конечно, и то, что он, как и я, являлся выпускником Константиновского военного училища (правда, окончил он его лет на пять раньше меня), так как принадлежность к одному и тому же военному учебному заведению – в любые времена имело большое значение в офицерской среде.
Регин уже неоднократно помогал мне в решении отдельных служебных вопросов, и я был весьма признателен ему за это. В частности, благодаря ему, я без очереди пробился на аудиенцию к Лохвицкому в первый же день своего пребывания в «Мальи» (для решения вопроса о моём назначении с учётом поручения, данного мне Батюшиным). Правда, тогда, встреча с генералом произвела на меня удручающее впечатление…
Лохвицкий долго вспоминал просьбу Батюшина о моём назначении в штаб бригады (в целях более эффективного выполнения моей секретной миссии), затем также долго сморкался, думая о том, как бы от меня побыстрее отделаться, и, наконец, в заключение, выдал единственную фразу: «Штабс-капитан! Послужите-ка сначала на позициях… «прощупайте», так сказать, обстановку в низах, а там – видно будет… Ступайте с Богом, голубчик!».
Я не стал настаивать на выполнении Лохвицким своего обещания насчёт меня, данного им Батюшину, и не только потому, что глупо штабс-капитану пререкаться с генералом, но и потому, что мне самому было бы зазорным находиться в штабе в канун ожидаемого направления на фронт.
Да, и само поручение Батюшина мне, в тот момент, казалось нелепым и напрасным. Всё шло своим чередом, все были живы и здоровы, и дальнейшая перспектива благополучия нашей бригады не вызывала никаких опасений.
Гораздо больше волнений у меня вызывало чрезмерное «закручивание гаек», в целях «повышения дисциплины» у нижних чинов, практиковавшееся многими офицерами нашей бригады в своих подразделениях. Порки и зуботычины сопровождали учебный процесс во многих батальонах, что резко контрастировало с порядками во французской армии, и, действительно, вызывало, как минимум, непонимание со стороны военного руководства французов и глухое раздражение со стороны русской солдатской среды.
Справедливости ради, надо отметить, что, зачастую, нижние чины сами «вызывали огонь на себя» своим непослушанием, дерзкими ответами и поступками криминального характера. Солдаты 1-й Особой пехотной бригады, в своей основе, были набраны на службу из заводского элемента Москвы и Самары. Отсюда – их дерзость и потенциальная «революционность», которой они успели нахвататься на родине.
К счастью, в нашем батальоне с дисциплиной был относительный порядок, и держался он, во многом, на высочайшем авторитете подполковника Готуа, противника порок и неоправданного рукоприкладства. Горячий по натуре, он и сам, порой, мог не сдержаться и «зарядить кулаком в ухо» провинившемуся солдату, но, для этого, тому надо было очень «постараться» это заслужить. В батальоне все знали – «получить по морде», здесь, можно, но – исключительно, «за дело», а это – «совсем другой оборот», как говорили редкие бывалые солдаты, попавшие в наш батальон после госпиталей.
Мне, как и моим новым друзьям-офицерам по нашему батальону, конечно, тоже, иногда, приходилось прибегать к зуботычинам в обращении с нижними чинами, но только лишь в тех случаях, когда человек не понимал, а, вернее, не хотел понимать нормальных слов; но таких «эксцессов», с нашей стороны, было крайне мало, и я никогда не ловил на себе взглядов, полных ненависти и неприязни, которыми, зачастую, сопровождались отдельные офицеры нашего экспедиционного корпуса.
Для солдат 1-й Особой бригады одним из немногих доступных им удовольствий было общение с нашим общим символом – медвежонком «Мишкой», который рос у всех на глазах и был по настоящему домашним: любил сладости, внимание и ласку.
Благодаря своим преданным «поводырям» Ваське и Сёмке, он выучил несколько забавных телодвижений, исполняя которые, неизменно вызывал добродушный хохот у случайных зрителей из числа солдат и офицеров.
Воспитанный «в русском духе» Особой бригады «Мишка» ужасно любил зелёную форму наших солдат и абсолютно не выносил синюю форму французов, чем ещё больше снискал к себе любовь русских пехотинцев.
Что касается офицеров бригады, то им были доступны удовольствия совсем другого уровня. Пользуясь близостью Парижа, многие из нас, с разрешения руководства, стали частенько бывать в самой красивой европейской столице. И, если некоторых моих коллег, в первую очередь, интересовали рестораны и публичные дома, то меня и Разумовского, в котором я нашёл своего единомышленника, в гораздо большей степени, по крайней мере, поначалу, привлекали театры и исторические достопримечательности Парижа.
За довольно короткий срок мы «облазили», если можно так выразиться, всю старую часть этого великолепного города и дотошно выяснили у местных знатоков подробную историю его создания (кстати, весьма, отличную от той, с которой мы, наспех, были ознакомлены, обучаясь в юности в своих военных училищах).
Оказывается, Париж был образован племенем «паризиев» ещё в середине третьего века до нашей эры на месте древнего кельтского поселения Лютенция на острове Ситэ, расположенном посередине реки Сены (кстати, современное название города и происходит, как раз, от имени этого племени). А в пятьдесят втором году до нашей эры, во время войны с римлянами, «паризии» сами подожгли Лютенцию (ну, прямо, как в одна тысяча восемьсот двенадцатом году наши предки – Москву – перед тем, как отдать её французским оккупантам) и разрушили все мосты, чтобы их город не достался врагу.
Тогда, римляне оставили их остров в покое и построили на левом берегу Сены новый город, где, впоследствии, возвели свои традиционные термы, форум и амфитеатр. Правление римлян в нём закончилось лишь с приходом на эти земли франков (примерно в середине первого тысячелетия нашей эры), и с этого времени город стал, по настоящему, усиленно строиться и укрепляться.
Безусловно, столица Франции поражала своим великолепием всех прибывающих в неё в первый раз. Меня же с Разумовским, в первую очередь, поразили пять её самых известных достопримечательностей: построенный на острове Ситэ собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Триумфальная арка, а также возвышающиеся над линией горизонта базилика Сакре-Кер, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне окружающего её малоэтажного городского квартала.
Однако, изучив главные парижские достопримечательности, я и Разумовский «устали» от этой архитектурной красоты и плавно переключились на местные театры. Нами были, по очереди, посещены широко известные оперный театр «Гранд Опера», являющийся самым большим оперным театром мира, и знаменитый театр «Комеди Франсез», вслед за которыми нашего «изысканного» внимания удостоились, также, кабаре «Тоурни ду Чат Ноир» на Монмартре и синематограф братьев Люмьер на бульваре Капуцинов.
Утолив свой культурно-исторический голод, мы, наконец-то, перешли и на более «плотские» наслаждения. Нашему нашествию подверглись кафе «Прокоп» и кафе «Де ля Режанс». Данные заведения общественного питания мы штурмовали уже в компании Мореманова, Орнаутова, Лемешева и Рохлинского. Обильные возлияния, однако, тоже довольно быстро наскучили, и нас потянуло испробовать «клубнички», тем более, что пути в эти места «продажной любви» уже давно были проторены нашими более любвеобильными товарищами из других подразделений бригады.
По совету офицеров из третьего батальона я, Мореманов и Орнаутов, в одну из своих очередных поездок в Париж, посетили «развлекательное заведение» мадам Дардье. С нами, наотрез, отказались туда поехать Разумовский и Лемешев, хранившие верность своим жёнам, и скромный прапорщик Рохлинский, стушевавшийся лишь при одном упоминании публичного дома. Без них, втроём, нам, конечно, было не так комфортно (как, если бы, мы приехали сюда вшестером) перешагивать порог вышеуказанного заведения, но мы умело скрыли это внезапно появившееся у нас стеснение нарочитой бравадой и напускным весельем.
Как это не странно, но внутри помещения публичного дома мадам Дардье оказалось довольно уютно. Угостив «девочек» шампанским и слегка пофлиртовав с каждой из них, мы довольно быстро определились с выбором и не спеша разошлись со своими избранницами по выделенным нам номерам, предварительно заплатив хозяйке заведения за три часа будущего удовольствия.
Я выбрал себе наименее развязную, как мне показалось, девушку с длинными тёмными волосами и слегка смугловатым лицом. Она была средней полноты, но, при этом, хорошо сложенной. Красавицей её, конечно, назвать было нельзя, но выглядела она достаточно милой. Вдобавок, девушка весьма забавно говорила по-французски, что тоже придавало ей особый шарм. Как позже выяснилось, она была венгеркой, уже четыре года живущей во Франции, и звали её коротким именем «Жизи».
Разговаривая со мной, она спокойно-деловито раздевалась и аккуратно складывала свою одежду на спинку стула, стоявшего около большой двуспальной кровати, застеленной свежей простынёй, ещё сохранившей запах недавней стирки.
В комнате, где мы находились, единственное окно было наглухо закрыто плотными шторами, а на маленьком столике горела керосиновая лампа, достаточно хорошо освещавшая весь номер.
Пока я оглядывал помещение, Жизи полностью разделась и, проворно скользнув на кровать, привычно заняла соблазнительную позу. Её нагота была приятна моему взору, и я, наконец, расслабившись, тоже быстро освободился от своей форменной одежды и осторожно прилёг рядом с ней…
Три часа пролетели незаметно. Жизи была достойной представительницей сообщества «жриц любви», и мне с ней было, по настоящему, спокойно и легко. Я, действительно, получил то удовольствие, которого уже давно не испытывал.
Последний раз со мной такое было ещё в России, за день до моего отъезда в Москву к месту формирования Особой бригады. Бешеная ночь с нашей соседкой, двадцатитрёхлетней вдовой, у которой муж погиб на фронте ещё в первые месяцы войны, также осталась у меня в памяти, как и укоризненные взгляды моих родителей, видевших, как я выходил от неё рано утром следующего дня. Но всё это было уже далеко-далеко, а рядом – лежала девушка, которая, только что, подарила мне эту полузабытую плотскую радость.