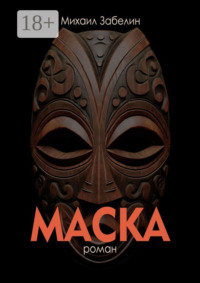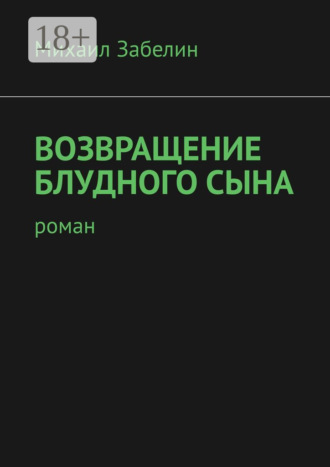
Полная версия
Возвращение блудного сына. Роман
Наутро, когда они вернулись домой, об их решении узнала и Марья Ивановна. Она их перекрестила и благословила: «Будьте счастливы, дети», – и снова накрыла на стол, и расцеловала их, и усадила рядом.
Новогодняя ночь эта показалась нескончаемой, сказочной, но никто не уставал от нее. Они успели вздремнуть, погулять по безлюдным улицам, проводить на автобус Марью Ивановну, и уже совсем поздно Даша застелила свежим бельем постель, и они, наконец, легли в свое брачное ложе.
Закружились в зимней метели и в редких ясных часах, в любви короткие праздничные дни и ночи. Днем они катались на лыжах по заснеженному сосновому бору. Деревья, как мачты корабля, упирались в распогодившееся голубое небо и в январское торопливое блеклое солнце. Лыжи шли легко и катились гладко по пологой, длинной горке вдоль берега Волги. Они останавливались, уходя с лыжни, подальше от посторонних глаз, чтобы съехаться лыжа в лыжу, обняться, согреться друг о друга и поцеловаться в морозные щеки и теплые губы.
За обрывом, внизу, затянутая в лед Волга разлеглась белым тюлем до избушек на другом берегу. Сосны, покачиваясь зелеными верхушками, что-то шептали, скрипели и кряхтели. Благодать, тишина, белизна, чистый воздух и свежесть морозного дня дарили покой и целый мир, и он представлялся огромным и бесконечным, как жизнь, и принадлежал, казалось, только им одним.
На третий день Даша сказала:
– Давай поедем сегодня в Толпыгино, к маме. Ей будет приятно, что мы приехали. А у тети Вали всегда весело, собирается родня, песни поют. Ты таких песен и не слыхал, тебе понравится. Послезавтра на работу. Заберем ее оттуда и вместе домой поедем. Ты как?
– Да я с тобой хоть в Толпыгино, хоть куда.
Это правда, такого застолья Илья не видывал никогда. Он был в восторге. Ему всегда нравились шумные компании, но здесь все было особенным, другим: простым, искренним, задушевным. Наверное, люди в этих краях жили по-другому – более открыто, доброжелательно и бесхитростно. На столе стояли бутылки беленькой, в комнате гудел незлобливый галдеж, а молодые бабенки и те, что постарше, и совсем старые, видно, много раз спевшиеся и сладившиеся между собой, затягивали песни. Мужики иногда подхватывали, но вели бабы на несколько голосов:
Вот кто-то с горочки спустился —
Наверно, милый мой идет,
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
Они пели, глядя друг другу в глаза, протяжно, душевно, серьезно, немного подвывая. Наверное, только в русских деревнях еще умеют так петь: безоглядно, самозабвенно, с надрывом, сердцем.
Его Даша пела вместе с другими, и казалось, что она была далеко, словно окунулась в песню, как в воду, и в то же время Илья думал, что она поет о нем, о любви к нему, для него. Это было сладкое, упоительное чувство радости и какой-то неведомой доселе душевной свободы.
Свадьбу назначили на лето. Зимние каникулы подошли к концу. Они расставались на несколько месяцев.
IV
Свадьбу пришлось отложить. Весной умерла Марья Ивановна. Она умерла внезапно, без всяких признаков болезни. Будто ворвался ветер в распахнутую дверь и задул свечу. Она была энергичной и жизнелюбивой. Даша вспоминала, как она зимой, в валенках на босу ногу и в полушубке, накинутом на халат, бегала с ведрами на колодец. Она заботилась обо всех, кто был рядом, лишь на себя не обращала внимания. Даша рассказывала, что у нее было высокое давление, и врачи советовали лечиться. Куда там. Она умерла неожиданно, еще совсем молодой.
Илья приехал на похороны. Отпевали Марью Ивановну в Красинском, ближней к городу деревушке, откуда она была родом. Священник Михаил стоял у гроба с кадилом, а она лежала спокойно и тихо, и белое лицо ее было серьезно. Словно смерть согнала с ее губ обычную приветливую улыбку и заставила в последний раз задуматься: а так ли, как надо, как хотелось бы, она прожила свою жизнь? А все ли, что было задумано, что хранилось на сердце, она исполнила? Все ли передала и завещала единственной дочери? Всему ли научила ее, чтобы не так трудно и одиноко было ей жить на земле?
Даша стояла у гроба, в последний раз смотрела на маму большими, чуть удивленными от этой несправедливости глазами, и беззвучно плакала.
Илья стоял рядом, глядел в закрытые глаза Марьи Ивановны и видел ее живой, суетящейся на кухне, усаживающей его за стол, мелко крестящей их с Дашей в родительском благословении. И слышал ее мягкий голос: «Будьте счастливы, дети». Он знал, что она очень любила Дашу, полюбила и его, будущего зятя, и был благодарен ей за ее понимание, доброту и любовь.
Марью Ивановну похоронили на деревенском кладбище, среди берез, на высоком берегу Тахи. Солнечные блики прыгали на могиле и, как могли, утешали живущих.
Были поминки. Даша сдерживала слезы, а когда они остались вдвоем, уткнулась в Илюшино плечо и зарыдала в голос. Илья гладил ее по головке, держал за руку и не находил слов утешения. Нет таких слов.
На следующий день он ей сказал:
– Дашенька, поехали со мной в Москву. Нельзя тебе одной здесь оставаться.
Она покачала головой:
– Нет, Илюша. Поезжай. Заканчивай институт и возвращайся. Я тебя буду ждать.
И снова они расстались. Бог ли испытывал их, судьба ли так распоряжалась, но приходилось ждать и верить.
V
В повседневных трудах, в расставаниях и встречах промелькнул еще один год. Илья окончил институт и на месяц приехал к Даше. Было решено, что в свой отпуск она поедет в Москву знакомиться с Илюшиными родителями, а потом они поженятся.
Как так получилось, что до сих пор она их ни разу не видела, Даша не понимала. Она не расспрашивала о них, а он не рассказывал. Будто и в самом деле, Москва была очень далеко и жила своей отдельной жизнью, в которой были он, его родители, его сестра, а их совместная жизнь в маленьком городе шла, как бы, сама по себе. Теперь он сам заговорил об этой встрече.
– Я хочу тебя познакомить со своими. Поженимся, поживем первое время у них, а там посмотрим.
Даша соглашалась. Нельзя сказать, что она соглашалась с Ильей во всем: она прислушивалась к нему всегда, но имела и свое мнение и мягко отстаивала его, когда считала нужным. Между ними так счастливо сложилось изначально, что они умели слушать друг друга и соглашаться.
Даша никогда не была робкой девушкой, но перед встречей с Илюшиными родителями волновалась, как перед экзаменом.
Андрей Петрович Головин оказался радушным и доброжелательным человеком. Илюшина мать – Зинаида Васильевна, была женщиной строгих правил и показалась Даше внимательной, но властной и, как бы, оценивающей ее свысока.
Московская трехкомнатная квартира оказалась просторной. Илюшина сестра, старше его на пять лет, была замужем и жила отдельно. На званный обед она приехала вместе с мужем, человеком молчаливым, который напоминал Даше актера без слов, бесшумно появляющегося на сцене в начале и в конце спектакля.
Обед протекал чинно, как затянувшаяся шахматная партия, в которой противники делают ни к чему не обязывающие ходы и не рискуют взять на себя инициативу. Илья ерзал на стуле, скучал и с нетерпением ждал окончания банкета. Дашина робость прошла, и ей стало смешно от этого благолепия, хоть она и старалась оставаться серьезной.
Когда все закончилось, и Даша с Ильей вышли погулять, она обняла его и сказала:
– Милый, у тебя прекрасные родители, но если мы будем жить в Москве, нам лучше снимать квартиру.
Илья смутился немного, а потом рассмеялся.
– Ладно тебе, что-нибудь придумаем. Женщины ведь всегда в своей голове разбирают соперниц по косточкам. Так ведь?
И тогда Даша тоже засмеялась, и с этим давно сдерживаемым смехом ушли и скованность, и неловкость, и обида, и стало легко-легко.
Свадьба была скромной и скоротечной: расписались в районном ЗАГСе, посидели вечером за родительским столом, а наутро, вырвавшись из тесных семейных объятий, отправились домой, за четыреста километров от Москвы.
Даша понесла, будто только и ждала формального оформления их отношений. Илья не отходил от нее ни на шаг. Он писал ее портреты и иногда ездил на Волгу, на пейзажи. Он бродил по набережной, глотал незадымленный машинами и трубами воздух и ловил себя на мысли, что ему совсем не хочется возвращаться в Москву. Предыдущая жизнь, родители, друзья и подруги отодвинулись на второй план и заслонились Дашиной беременностью и неясными надеждами на будущее. Он поднимался на Соборную горку и окидывал взглядом карабкающийся по холмам город, домик Левитана, деревянную церквушку над вечным покоем и бескрайнюю Волгу, раскинувшую вправо и влево темные руки.
Что-то переменилось в его осознании себя и мира вокруг. Поменялась первостепенность вещей и ценностей. То, что совсем недавно казалось главным и единственно важным, сегодня помельчало и сделалось несущественным и даже ненужным. Еще вчера ему мерещилась за ближайшим поворотом судьбы радуга славы, признания, творческих выставок, зарубежных поездок и проистекающего из них достатка. Он, по-прежнему, думал об этом, но по-другому, не придавая такого значения поверхностному блеску, сопутствующему успеху. Он видел теперь свое призвание не в суетной беготне за славой, а в творчестве вдумчивом и уединенном, близком к природе и пониманию мира. Сегодня он, может быть, впервые задумался о Боге. Бог представлялся ему безбрежным, вездесущим и вечным, как эта река, леса и поля, как солнце, небо, ветер и земля, и в то же время он чувствовал Его внутри себя, будто вместе с красотой и покоем, окружающим его, Он отразился в нем самом. Возникло чувство отстраненности, оно передалось рассудку, Илья сформулировал для себя эти новые ощущения, как перепутанную мозаику, неожиданно превратившуюся в рисунок. И в этой сложившейся в голове картине на первом месте нарисовалась Даша, их будущий ребенок, его творчество и солнечная красота мира вокруг него. Сейчас для себя он принял решение: жить здесь, в их доме, с Дашей и маленьким и писать. Здесь свободнее думается и легче пишется, здесь чище воздух и больше простора.
После художественного училища он получил свободное распределение. Что же, свобода – это неплохо, это даже очень хорошо, что его не будут вести, как козленка на привязи, и учить, что писать. Так ему казалось, он оставался все тем же мечтателем, сказочником, как его иногда называла Даша.
Они еще не говорили о том, как и где будут жить дальше. Но теперь он принял решение и был уверен, что Даша поддержит его.
Голубое мартовское небо широко распахнулось над головой. Снег сошел рано, Волга встрепенулась и ожила. Сумбур в голове развеялся, как степной туман, и Илье показалось, что в бездонной высокой синеве он, наконец, нашел разгадку бытия. Она была проста и понятна: жить, любить, творить и радоваться каждому мгновению. Ненастья, как облака, прогоняются ветром, а небо остается неизменным. Даже если оно серое, тяжелое, и нет конца тоскливым дням, обделенным солнцем, придет весна, а за ней лето, и это значит, что ты живешь.
На следующий день он написал письмо родителям и стал готовиться к выставке молодых художников в Москве, в которой его пригласили участвовать. От нее он ожидал многого, и ему было приятно слышать от Даши:
– У тебя же талант. Все будет хорошо.
Неожиданно, не предупредив, к ним в гости нагрянула Илюшина сестра.
– Показывайте, как вы здесь живете, – с порога объявила она.
Наталья Андреевна Головина была женщиной умной, расчетливой и прагматичной, резкой, прямой и категоричной в суждениях. В отличие от своего вечно сомневающегося и рефлексирующего брата она была уверена в себе и в том, что, что бы она ни делала, она поступает правильно. Она рано ушла из родительского дома и вышла замуж, скорее, не по любви, а из желания быть независимой от них. С Ильей они были слишком разными, чтобы быть близкими. Она всегда казалась старшей. Ее нельзя было назвать ни красавицей, ни дурнушкой. Глаза у нее были серо-зеленые, нос прямой, губы тонкие, лицо не круглое, не худое. Прически она носила скромные, но по моде, и тщательно ухаживала за своей внешностью, прежде всего, за руками и фигурой. Она несколько раз неудачно поступала в медицинский институт и работала медсестрой. Свою горечь по этому поводу она никогда никому не раскрывала. Детей у нее не было.
Она обошла дом, как хозяйка, и покачала головой.
– Скромненько, но чисто.
Даша быстро накрывала на стол.
– Вот что, ребята, – без предисловий начала Наталья Андреевна. – Хватит дурака валять. Пожили в деревне, вкусили простого бытия, пора домой возвращаться.
– Здесь наш дом, – оборонил Илья.
– Родители там с ума сходят, – не обращая на него внимания, продолжала сестра, – а они, видите ли, жить здесь собрались. Ты что себе думаешь, – обратилась она к брату, – много в этой глуши денег заработаешь? Или ждешь, что родители станут помогать? Или что твоя мазня будет продаваться?
Илья начал закипать. Даша положила ладонь на его сжавшиеся пальцы.
– Давайте пообедаем сначала. Вы походите по округе, здесь очень красивые места есть, – сказала она.
Наталья Андреевна как-то сразу поостыла и передохнула:
– Да, ты права. Потом поговорим.
Здешние места и вправду ей понравились. Она гуляла одна, ездила на Волгу, заглянула ненадолго к дяде и к начатому разговору больше не возвращалась. Спустя неделю за ужином она рассказала:
– Места у вас, действительно, красивые. Я поездила, дом под дачу присматривала. Договорилась о покупке. Большой дом, каменный, на берегу Волги. Дом заброшенный, ремонта требует, и сад запущенный. Но за копейки. Люди не понимают, что через тридцать лет эта земля бешеных денег будет стоить.
И резко поменяла разговор:
– Так что вы решили: здесь останетесь или в Москву поедете?
– Никуда мы не поедем, – ответил Илья.
– Ну и дурак.
На следующее утро сестра уехала.
VI
Илюшина работа на выставке провалилась. «Прошлый век, батенька. Новизны нет, свежести.»
Илья писал эту картину на Соборной горке. Ему самому показалось, что он сумел запечатлеть на ней вечность. Он хотел передать в ней и чувства свои, и осознание того, что непреходяще и бесценно: мир вокруг нас и красота. Волга, небо, лес, холмы, поля и расплывчатый, теряющийся за ними горизонт.
Картину осмеяли, а он, будто оплеванный, убежал прочь из Москвы.
Он приехал домой мрачный, неразговорчивый. Тоска в голове и в груди гнула, давила, расплющивала и желания, и веру. Будто ножом полоснули и по картине, и по сердцу, словно отрубили будущее. Наверное, он заблудился, и там, где была дорога, разверзлась пропасть.
Даша налила ему чай, придвинула поближе наготовленные к его приезду колобушки и сказала:
– Знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты заботливый, внимательный, нежный. А еще за то, что ты добрый, умный, талантливый. Ты – замечательный художник. Но я не смогу тебя любить, если ты будешь слабым, если ты будешь ныть из-за неудач, если ты перестанешь верить в себя, в свое призвание, так, как верю в тебя я. Моя мама любила повторять: «Не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть.»
Нам хорошо вместе, слава Богу, что мы вместе. Тебе этого мало. Любому человеку всегда мало, и тебе, и мне, всегда чего-то не хватает. Но рассуди сам: мы уже многое имеем, у нас есть любовь, дом, скоро родится наше дитя, а все остальное придет, стоит только верить и очень сильно захотеть.
Даша умела найти слова, чаще ласковые, порой грубые и прямые. Она была более практичной, нежели он, она была здравомыслящей женщиной. И придавала ему уверенность.
А сестра была права лишь в одном: в ближайшее время нечего было рассчитывать на плоды своих творений, надо было зарабатывать деньги.
Илья устроился на работу фотокорреспондентом в местную газету. Фотографировать, возиться под красной лампой со снимками он научился давно, еще в институте, любил и умел это делать. На скорые деньги от своих картин он уже не надеялся, но продолжал писать для себя и для Даши.
Ее живот уже сильно округлился, и они стали понемногу готовиться к появлению на свет нового члена семьи Головиных.
Событие это произошло в середине осени и шумно отмечалось приехавшими по этому случаю Илюшиными родителями, Игорем Васильевичем, Дашиной тетей Валей и соседями. Илюшина сестра не приехала. Родился здоровый, крупный мальчик. Назвали его Александр.
Навалилась разгульными ветрами и метелями зима, жить стало тяжелее. Затемно топили дровами котел и грели воду, когда чуть светало, Даша бежала на реку стирать белье, а Илья с ведрами на колодец. Слава Богу, Саша был спокойным ребенком и по ночам плакал редко. Денег, полученных от государства на младенца, хватило на то, чтобы оплатить электричество за месяц и купить распашонки. Илья уходил на работу, а перед глазами стояли Дашины красные от ледяной воды руки, и он думал, что, хоть вывернется наизнанку, но купит стиральную машину.
Даша стала спокойнее и похорошела. Она не располнела, но подобрела телом, налилась мягкой, светящейся красотой, которую дает женщине материнство. Вечерами, когда она кормила грудью Сашеньку, Илья писал ее портрет мадонны и лучше понимал мастеров эпохи Возрождения. Дашина голова немного склонялась к плечу, волосок выбивался из-под косынки, белая грудь была маленькой, молочной и упругой, как снежок. Руки крепко и ласково обняли младенца, а в глазах изнутри струились неповторимые нежность, любовь, мягкость и теплота. Уголки губ немного раздвинулись в легкой улыбке, тело стало округлым, линии фигуры слегка сгладились, и от нее исходил свет, будто Святой дух сошел на эту женщину.
Как-то она сказала:
– Илюшенька, иногда в последнее время я будто вижу Бога, даже не вижу, это не совсем точно, а ощущаю. Это так странно и приятно. Какая-то теплая, радостная волна нарастает в груди, и я понимаю, что Он рядом и Он во мне.
Крестить Сашеньку поехали в Толпыгино, местная церковь была закрыта еще до войны и превращена в склад.
К выбору крестных они подошли серьезно. Илья тщательно перебирал в памяти своих однокурсников и школьных товарищей. Ни один не подходил в этом качестве, и даже неизвестно, поехал бы кто-то в такую даль. Он вдруг подумал, что ведь настоящих друзей у него-то и нет.
– Дашуль, у тебя ведь есть подруги, я знаю.
– Понимаешь, мы часто встречались раньше, а сейчас никого из них и видеть не хочется. То ли повзрослели, у многих уже семьи и свои заботы, то ли это были не настоящие подруги.
И оказалось, что нет здесь у них никого ближе Дашиной тети Вали и Илюшиного дяди Игоря.
Время менялось, в стране началась перестройка.
В Москве, в Измайловском парке стали выставляться художники, и теперь Илья ездил туда на субботу-воскресенье, как на работу. Он выезжал в пятницу вечером, а с утра субботы уже стоял в длинном ряду своих собратьев по творчеству. В воскресенье вечером садился в автобус, приезжал домой ночью и утром шел на работу. Это было изматывающе и не всегда приносило деньги. Поначалу он чувствовал себя нищим, выпрашивающим милостыню, потом пообвыкся, огляделся и даже с кем-то познакомился.
Это была первая перестроечная барахолка. Она напоминала времена НЭПа из фильмов про двадцатые годы. Торговали всем: самоварами, матрешками, антиквариатом, иконами, какими-то камнями времен палеолита, деревянными поделками, тряпками и посудой, орденами, медалями, фуражками и касками. Это была какая-то вакханалия выброшенных на свалку и вдруг пригодившихся вещей.
Дашины портреты Илья не возил на продажу, только пейзажи. Мимо прохаживались невесть откуда взявшиеся вальяжные господа, дамы и иностранцы. Они тыкали пальцем в картину, говорили: «Сколько?» – качали головой, и по их лицам Илья понимал, что эти люди не то что не разбираются в живописи, а подбирают, чаще всего, картины под цвет обоев, как, чуть раньше, покупали книги под цвет гарнитура. Ему становилось противно, но тут же одергивала мысль, что Даше надо хорошо питаться, иначе пропадет молоко, и что надо бы прикупить что-нибудь из одежды и ей, и себе.
Иногда везло, и продавались одна или две картины. Остальные он складировал в родительской квартире.
Мать всплескивала руками:
– До чего же ты дошел.
Отец ругался, чего раньше с ним никогда не случалось:
– Довели страну до ручки.
Даша говорила:
– Хоть завтра не езди. Отдохни, сделай перерыв.
Илья сам понимал: нельзя только торговать. Да он и не умел толком торговаться. Он художник, а времени писать не оставалось. Тогда он сам у себя брал выходной, и они ехали с Дашей и Сашенькой гулять на Волгу. Илья в эти редкие счастливые дни стоял у мольберта, а Даша с Сашенькой на руках сидела рядом. Потом она укладывала его в коляску, и они долго гуляли по набережной.
Легко и спокойно жить в стране, не ведающей бремени революций, войн и потрясений. Тяжело выживать, не зная, что будет завтра. Они терпели, жили, надеялись и, несмотря ни на что, были счастливы.
Это перестроечное, бандитское, хаосное десятилетие промелькнуло словно старый фильм немого кино, который они с Илюшей видели по телевизору. Под бешеный, нарастающий без устали ритм музыки Свиридова крутятся шестеренки, моторы и люди, и, кажется, нет конца этой круговерти.
Саша уже готовился к школе, когда родился Сережа. Саша учился уже, Сережа стал ходить, потом говорить, потом пошел в детский сад, и колея, по которой Даша с Ильей продвигались по жизни, стала привычнее, идти по ней стало легче.
Даша работала там же, на заводе, Илья – в своей газете. В Москву, на заработки, он больше не ездил: стало модным приезжать из Москвы на Волгу, и в туристический сезон Илья выставлял свои картины на набережной и зарабатывал не то, чтобы много, но на семью хватало. О том, чтобы участвовать в выставках, ни он, ни Даша больше не говорили, но про себя он об этом мечтал, а Даша, его Даша, она все понимала и тоже надеялась на чудо или на Бога.
В городе подлатали и открыли для служб старинный храм Николая Чудотворца, и иногда, по праздникам, они приходили и ставили свечи к иконам. Они не знали молитв, и Даша молилась про себя придуманными ею словами:
– Господи, помоги. Спаси и сохрани, Господи, нас и наших детей. Сделай так, Господи, чтобы Илюшины работы выставлялись, чтобы выпрямилась его душа и избавилась от гнета непризнания и бедности. Не оставь, Господи, нас своей милостью.
Чудо ли произошло, или Бог услышал ее молитвы, в одночасье их жизнь переменилась.
VII
С Николаем Ивановичем Илья познакомился на этюдах на берегу Волги. В тот летний день Даша осталась с детьми дома, он был один и работал над новой картиной. Он давно привык не обращать внимания на туристов, останавливающихся на минуту за спиной и спешащих дальше, поэтому повисший в воздухе вопрос: «Вы что заканчивали, молодой человек?» – не принял на свой счет. Когда за его спиной тот же голос повторил: «Молодой человек!» – он обернулся. Позади стоял пожилой мужчина с седыми волосами, в очках, с бородкой клинышком, напоминающей незабвенного Михаила Ивановича Калинина, и с манерами дореволюционного интеллигента, не расстрелянного большевиками. Это лицо забыть было невозможно: перед ним был профессор живописи Николай Иванович Вяземский. Он вел у них курс лекций, потом Илья встречал его несколько раз на выставках, но знаком с ним не был.
– Суриковку, Николай Иванович.
– Мы знакомы?
– Нет, я посещал ваши лекции.
– Да? Не припомню. Приехали на этюды? Места здесь замечательные, левитановские.
– Нет, я здесь живу.
Брови профессора вздернулись вверх и выразили недоумение, будто писать можно было где угодно, но жить только в столице.
– Мне нравится ваша манера. Не помню, чтобы вы выставлялись.
Илья назвал год, выставку и ту свою разгромленную картину.
– Картину вашу не припомню, но тогда ведь оплевывали и освистывали всех, кто старой школы. Что же вы так и сбежали? Вот сюда?
Николай Иванович помолчал.
– Один живете?
– Нет, с семьей.
– У меня здесь дача. Приезжайте ко мне завтра часам к двенадцати и привезите свои работы, те, что вы считаете лучшими, – и назвал адрес.
Он исчез в приволжском знойном мареве, а Илья все оглядывался вокруг, пытаясь определить, не было ли все это сном или игрой воображения. Продолжать работу он более не мог, ему не терпелось поскорее вернуться домой и рассказать обо всем Даше.
На следующий день, ровно в двенадцать часов, Илья стоял перед калиткой с указанным на ней адресом и аккуратно нажимал на кнопку звонка.
* * *
Все, что происходило в последующие дни, Илья и Даша воспринимали,
как сказку, как наваждение, как обман или промысел Божий.
– Я не верю в случайности. Если очень чего-то хочешь, если ты уже готов к этому, все непременно случится. Все в воле Божией и в человеческих руках, – повторяла Даша, как заклинание.