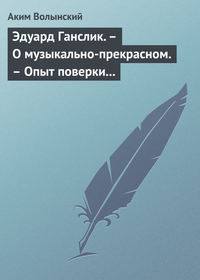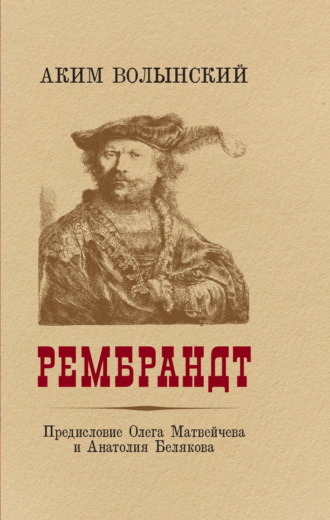
Полная версия
Рембрандт
Имеется несколько бюстных изображений старой женщины, иными своими чертами напоминающей мать Рембрандта. Черты сходны между собою, но иногда они кажутся слишком плотными и массивными, и в них проблескивает иная психология. Три маленьких головы этюдного характера, относимых Ровинским к 1633 году, не возбуждают никаких сомнений. Это всё та же женщина, с теми самыми чертами, которые мы уже рассмотрели. Но бюст старой женщины, оторвавшейся от чтения и заложившей правую руку под одеждой на груди, контрастный с тремя такими же бюстами, но с молодыми лицами, вызывает уже довольно большие сомнения. Тут лицо матери с упрощенно мясистыми чертами, просто типичной старухи. Гармоника не играет. Поэзии куда меньше, чем в рассмотренных нами офортах. Офортная мгла Рембрандта чудодейственна только в полноте своей работы. Если хоть одну черточку исказить в его произведении, что-нибудь огрубить, что-нибудь слишком умягчить, что-нибудь утрированно переосветить, и вся магия его искусства сейчас же исчезнет. В каждой магии есть своя щепетильность, свои секреты и свои законы, ускользающие от непосвященных.
Мы имеем несколько оттисков одного офортного портрета, на котором следует остановиться с особенным вниманием. Лицо строгое, сосредоточенное, благочестивонастроенное, всё сомкнуто в молитвенном экстазе. О лице мы не скажем ничего нового: это то же лицо, те же черты его, которые мы достаточно изучали на предыдущих страницах. Остановимся на положении руки. Она, несомненно, собрана в кулак и лежит у сердца, в позе биения груди. Если бы левая рука эта просто лежала, без тенденции к биению, пальцы были бы вытянуты в той или другой степени и кисть находилась бы ниже. Тут же на портрете мы имеем именно биение, частое и ритмичное, согласованное со словами определенной молитвы. И весь офорт, при таком предположении, становится понятным, живым и интересным, давая почти документ о еврейском происхождении этой женщины. В Судный день, Иом-Кипур, когда прощаются грехи, совершенные по отношению к богу, молящиеся произносят длинную молитву, перечисляющую все отступления от закона, в которых они повинны. В строфах длительного перечисления, начинающихся одними и теми же вводными словами, произносятся все тяжкие самообвинения, и каждая строфа сопровождается биением груди. Грехов много-много, они разбиты на категории – рука всё время мягко постукивает по грудной клетке. Это не только придуманный иератический жест, но жест исключительно еврейский, во всей его типичности. Произносятся удивительные слова. Взяты даже такие прегрешения, которые уловимы только для тончайшей, быстро схватывающей апперцепции, причём литургисты разных эпох внесли сюда свои индивидуальные вклады. В целом изумительная молитва, прошедшая через творчество талмуда и отдельных религиозных компонистов, поражает обилием моральных оттенков, которые могли возникнуть только в процессе векового роста глубочайшей самокритики. Какие тут указаны грехи! Это трактат совести, естественной только в семитической литературе и глубоко отличный по духу от условной католической казуистики. Совесть еврейская совершает свои акты в молчании, одним помышлением, одним движением мысли в ту или другую сторону, даже и не выражаясь иногда в реальном действии. Она-то и следит за нашею жизнью, не только в её грубых мистификациях, но и тогда, когда она выступает в едва заметном дыхании, в тенях и оттенках каких-нибудь минутных помышлений, в неловком движении руки, в нецеломудренно открывшемся глазе, в несдержанном шепоте уст. «Закоснелость сердца» – это грех. «Исповедь не от сердца» – грех. «Подкупная рука» – грех. «Вытянутая спесью шея» – грех. «Бред уст», – «перемигивание глазами», «узость глаз», «жестокость чела» – всё это грехи, отнюдь не перед людьми, а только перед богом, и всё это перечисляется в покаянной молитве Иом-Кипура, с ритмическим постукиванием по груди без всякого пароксизма отчаяния. При этом постукивание частое, почти непрерывное, ибо в каждом таком грехе повинен более или менее всякий. Удар легок и безгневен, как легок и несмертелен грех – грех против неба, против солнца, против звезд. Если с этими соображениями и представлениями подойти к нашему офорту, который Рембрандт набрасывает на доску в 1631 г. и к которому впоследствии вернулся в 1636 году, то всё его значение почти исторического документа станет особенно понятным. Мать Рембрандта представлена в день Иом-Кипура бьющею себя в грудь. Для всех окружающих тут был глубочайший секрет. Под офортом при разных его репродукциях имеется подпись: «мать Рембрандта с рукою на груди». Но, конечно, это подпись каталогов, далеко не исчерпывающая всего изложенного в офорт содержания. Такая собранная в кулак кисть, притом поднятая столь высоко, должна иметь своё оправдание – особенно в работах Рембрандта, где на каждом движении изображаемого лица останавливалась мысль вдумчивого мастера.
Сделаем попутно важное замечание. Судя по многим изображениям, Рембрандт не придавал особого значения, правой или левой рукой исполняется то или другое действие. Иногда он переносился мысленно в положение зрителя, для которого левая рука изображаемого лица находится справа. Так, например, на офорте, сидя рядом с Саскиею, Рембрандт гравирует левой рукой. Но гравировался он правой, как это видно из знаменитого офорта 1645 года. Так и в данном случае: старуха-мать ударяет себя в грудь не правой рукой, а левой, но придавать какое-либо значение этой детали, по приведенным соображениям, не приходится.
В 1636 году появляется офорт матери с тем же иератическим жестом руки, но с прибавлением автопортрета Рембрандта, представленного сидящем рядом за столом и гравирующим. Офорт имеется в двух разных состояниях – более темный и более светлый. Существует и вариант этого офорта, где вместо матери представлена жена Рембрандта Саския. Всё то же самое, до мельчайших деталей, но всё светлее и яснее. Что касается матери Рембрандта, то она кажется прямо скопированной, даже скалькированной с офорта 1631 года. Не изменен размер лица, хотя следовало его значительно уменьшить по сравнению с лицом Рембрандта, сидящего ближе к зрителю. Это несоответствие размеров особенно бросается в глаза при одновременном рассмотрении обоих вариантов – с матерью и с Саскией. Лицо матери непомерно велико.
Ещё один портрет матери Рембрандта из венского придворного Музея. Он написан масляною краскою, в обычной для Рембрандта светотени. Мать представлена за год до смерти, беспомощно дряхлою женщиной, опирающеюся сложенными руками на палку. Всё в этом портрете говорит о том, что жизнь старушки пришла к концу: утомленные глаза, бесчисленные складки лица, выражение бессильных уст, уже не могущих говорить внятно и громко. Вся гармоника сжата в последнем движении. Только ещё один звук и вздох – и человеческое явление исчезло, всё готово! Невозможно было представить лучше этот финальный момент человеческой биографии. Свет в картине рассыпан тончайшими, слабеющими брызгами по утихающей плотской стихии, которая через несколько мгновений окончательно растянется и выгладится в последнем своём безмятежном сне. Рембрандт не представил своей матери на смертном одре, но мы сами видим её ровно и тихо вытянутой на последнем ложе. Чья-то рука отошла от гармоники, и инструмент рефлективным движением, слегка раздвинувшись, приобрел свой протоморфный вид. Так и лицо человека. В момент смерти слегка и вдруг разглаживаются морщины и наступает выражение первоначального и красивого покоя. Улыбка смерти, красота смерти, не были ещё предметами особого изучения со стороны живописцев, хотя такой замечательный художник, как «мастер смерти Марии», не раз подходил к этой теме с большою проникновенностью. Впоследствии мы и среди произведений Рембрандта найдем настоящий шедевр, который возвратит нас к этому вопросу.
Имеется ещё гравюра Риделя, сделанная по оригинальному портрету матери 1630 года. Гравюра эта не прибавляет ничего ко всему нами сказанному, и мы отмечаем её только для полноты перечисления. Перед нами всё та же еврейская женщина, которую Рембрандт изображал много раз – то масляною краскою, то иглою офортиста.
Успение Богоматери
Мы имеем большой офорт Рембрандта, изображающий успение Богоматери. Насколько это изображение отличается от изображения других нидерландских художников на ту же тему, мы можем судить по некоторым памятникам, которыми мы располагаем. Остановимся на двух мастерах, близких Рембрандту по традициям северного искусства, отложив в сторону Дюрера, с его интимной и проникновенной жизнью Марии, лежащей на высоком одре. Руки её сложены в молитвенном жесте, лицо осенено каким-то сияющим покоем – красивое, круглое, с задушевно мягкими чертами. Полузакрытые глаза, уже угасающие, что-то прозревают в отдалении, совершенно неподвижны. Всё в фигуре Марии разработано в иконографическом стиле первых нидерландских примитивов. Платье в полуантичных складках, белый платок на голове, вся экспрессия – решительно всё отдает нежною фламандскою иконой первых этапов. Это именно икона, в строгом смысле слова. Замечательный художник не взял из быта почти ни единой черты для отображения в красках подобия Богоматери. Всё условно, традиционно и ипокритично в высшей степени, и если тут есть какие-либо реалистичные особенности письма, то они не восстанавливают перед нами обстановку действительной Богоматери, а заимствованы из непосредственного опыта нидерландского художника. При этом окружающие его двенадцать апостолов представлены в различных позах, и выражение их лиц являет чрезвычайную пестроту, насколько неожиданную и, пожалуй, слишком шумную в иконописном произведении. Руки все жестикулируют пестро и экспрессивно, слегка в итальянском стиле произведений фра Филиппо Липпи и Боттичелли. Один из нынешних исследователей старого нидерландского искусства находит тут нечто патологическое, как бы отражающее мутнеющее в конвульсиях сознание художника. Мы на этом останавливаться не будем и отметим только одно, что при всём разнообразии лиц и жестов, живой антураж Богоматери остается в неподвижных рамках иконописного произведения. Этот почти правильный круг, образуемый собравшимися у одра апостолами в длинных хитонах с плащами, дающими и обильные складки, некоторые церковные детали, как низлетящий в белом облаке Христос, с традиционным нимбом над головой, с отверстиями прободенных, широко раскрытых рук, сопровождаемый двумя ангелами шаблонного типа – всё это живет в атмосфере ещё не умершего византийского средневекового искусства, живописною какой-то готикою в отголосках новой эпохи. И опять-таки всё ипокритично в самой высокой степени, и даже выражение лиц апостолов, при всей их индивидуальности, не свободно от налета ипокритности. О чертах еврейских тут не может быть и речи. Художник был бесконечно далек от мысли выхватить тут что-нибудь из чуждой ему исторической среды. Все физиономии на картине носят общечеловеческий характер, без каких-либо этнографических особенностей.
Смерть Марии в изображении антверпенского мастера, Иооса ван дер Бека, по прозванию ван Клеве (Meister des Todes Maria[48]) тоже является ничем иным, как пышною иконою, со всем мастерством, прошедшим не только итальянскую, но и замечательную брабантскую школу. В мюнхенском и кёльнском музеях мы имеем две картины этого художника на эту любимую мастером тему Всё расписано в свободной манере итальянского ренессанса. Широкий масштаб комнаты, нарядность обстановки, льющийся богатыми и мягкими волнами свет из окон и дверей – все картинно живописно и эффектно в лучшем смысле слова. Но в позах и жестикуляции главных действующих лиц ипокритность почти абсолютная. Петр в тяжелом парчевом облачении византийского иерарха, читающий в полусогнутой позе по молитвеннику, в позе не натуральной, торжественная натянутость которой бросается в глаза – на картине кёльнского музея – священнодействующий актер не очень высокого достоинства. Выступающее на полу, из-под плаща, пятно приподнятой ноги особенно режет глаз своею надуманностью. Тут чувствуется что-то чрезмерно театральное аффектированное. То же приходится сказать и об апостоле Иоанне в мюнхенской картине. В Кёльне Иоанн представлен с обликом, несколько напоминающем этого апостола в трактовке Леонардо да Винчи. Конечно, это не голова из «Тайной Вечери», но что-то неуловимое роднит её с фигурами не только Винчи, но и других мастеров флорентийской и римской школ. Мюнхенский Иоанн представлен в образе тонко-интеллигентного католического монаха, с иератически поднятым пальцем, склонившимся у изголовья Богоматери. Выражение лица у него церковное в полном смысле слова. Сама Богоматерь на обеих картинах, как и богоматерь Ван Дер Гуса, вся дышит условностями традиций, причем искусственность впечатления усугубляется ещё и тем обстоятельством, что в руках умирающей находится длинная горящая свеча. Католическая тенденция всё поставить на котурны, всё задрапировать в пышную мантию церковности, всё прикрыть торжественною порфирою внешнего благолепия, повсюду возжечь огни во славу неба, всё залить криками призывных фанфар – всё это сказывается в такой маленький, но типичнейшей детали. Зачем умирающей свеча, когда в ней самой уже все гаснут одна за другою. В блаженном успении Богоматери покаянные символы совершенно не нужны, а театральная иллюминация звучит почти кощунственно. Если смерть представляет собою нечто иное, как исчезновение светящегося явления – человек гаснет, тухнет, уходит навсегда из поля нашего зрения, – то орнаментировать её теми или иными красками живого спектра, значит допустить какой-то абсурд и странную, отталкивающую противоестественность. Умирающего человека можно только облечь в белую рубаху и прикрыть белым саваном. Человек расплывается в белизне космоса, которой он уже принадлежит. Иное дело орнаментировать окружающую обстановку. Можно поместить около умирающей Богоматери целое море огней в ознаменование горящих печалью дружеских сердец. Можно поставить целый сад из декоративных растений и цветов. Вырвана из куста жизни прелестная белая лилия, душистый цветок человеческой флоры – и пусть плачут все принесенные цветы. Можно всю комнату обтянуть черным сукном или крепом в означение глубокого траура или тьмы. в которой погас такой свет. Всё это понятно, и естественно, и трогательно. Итальянское искусство, особенно чуткое ко всему возвышенно поэтическому, постоянно пользовалось подобными эффектами при изображении жизни и смерти Богоматери. Быт итальянский до сих пор утилизирует цветочные украшения для всевозможных церковно-исторических конъюнктур. Но тут в картинах мастера Смерти горящая свеча находится в руке умирающей и только расхолаживает общее впечатление.
И таково вообще действие ипокритного искусства, хотя бы и в самых гениальных его проявлениях. Можно развивать своё эстетическое чувство, можно уточнить ощущения формальной красоты, можно постигнуть совершенства идеальных композиций и мудрую гармонию линий и красок, созерцая бессмертные полотна итальянского и голландо-итальянского мастерства. Боттичелли разовьет в вас интеллектуальную нежность с примесью изысканной любви ко всему растительно-пластическому. Аккорд его искусства, дуалистического и мягко-женственного, живет в нас долгими годами и рождает то и дело целые направления в творчестве людей. Андреа даль Сарто посвятил нас в очарование культурно свежих и экзальтированных женщин, с которых написаны его мадонны. Тициан и Джиорджоне будут нас безумно радовать богатствами своих красок и применением их к передаче тончайших вариаций человеческих скрипок. Но религиозно мыслить и чувствовать нельзя научиться у итальянцев, даже у таких художников как Джиотто и фра БеатоАнджелико. Все эти картины великих мастеров, все эти фрески, рельефы и статуи, не исключая гениальных скульптур Микель-Анджело, являют собою только широчайшим образом разработанную науку искусства в наглядных образцах индивидуального творчества на протяжении нескольких веков. Религиозная тема в них почти отсутствует, если смотреть на вещи из глубины. Могла быть написана книга «Рембрандт, как воспитатель», но никому не пришло бы в голову написать книгу «Воспитатель-Боттичелли», «Воспитатель-Джиоржоне». Педагогическая роль итальянского искусства, в отличие от германского с его разветвлениями, только эстетическая, преимущественно эстетическая.
Человек умер, ушел от нас куда-то далеко, стал невидимым. Только что он был между нами – и вдруг его нет. Он где-то здесь, в обширном смысле слова, но воспринять его тем или иным чувством нет никакой возможности. Он приложился к отцам. Иного слова ветхозаветная библия и с нею вместе иудейство, на всех этапах его развития, в эпоху Моисеева законодательства, в эпохи Габимы и храма Соломона, равно как и в трагические времена духовного Сиона – библия и иудейство не знают. Но если человек приложился к отцам, значит он жив. Иначе было бы сказано, что он исчез или пропал. Исчезнуть из космоса не дано человеку. Но если умерший, исчезнувший почему-то из поля нашего зрения, приложился к отцам в новом образе существования, то это свидетельствует о том, что мы осиротели. Мы постоянно сиротствуем, у себя на дому и в общенародном, общечеловеческом смысле слова, слабеем физически и духовно, мельчаем и дифференцируемся в процессе истории, а царство отцов всё растет и растет. Умер брат – и стал отцом. Умер сын – и стал отцом. Всё переходит в отцовство. Тут есть что-то и радостное, и печальное в одно и то же время, потому что, с одной стороны, что-то к нам интимно приближается и тем становится частью нас самих, а, с другой стороны, исчезает сладкая эфемерида эмпирического бытия, с его дурманящей эстетикой разъединенных пространственно-временных единиц. И вся история человечества, рассматриваемая под этим углом зрения, является ничем иным, как радостно-печальным сиротствованием в умерших отцах – живых, но не видимых. Мы слепнем с каждым часом, с каждой новой разлукой, но слепнем не навсегда. Будет когда-нибудь момент, когда глаза наши, перерожденные в потоке бесконечных веков, вдруг станут видеть всё. Вдруг исчезнет время, ночь и смерть, и всё засияет в новом каком-то, медленно утончавшемся и наконец окончательно уточнившемся свету. На последней ступени космической трансформации мир отцов внезапно выростет перед нашими глазами.
Таковы интимные верования еврейского народа. Оплакивается, в сущности говоря, не тот, кто умер, а тот, кто остался. Он делает надрез на своём платье и видит себя в печальном осиротении. Точно он чувствует чье-то покушение на своё зрение, и отчаяние его, громкое, откровенное, голосящее, разливается безграничным, бесконечным потоком по всему его существу. Евреи плачут, особенно еврейские женщины, с трагическим каким-то пафосом, в глубочайшим образом задетом индивидуально личном своём мотиве, как существа, лишающиеся реальной опоры в жизни. И при этом никакого иератического ипокритства, которого так преизбыточно много в литургической трактовке христианской смерти. Еврей кричит всеми своими нервами, потому что его самого коснулась секира времени. В нём бушует вся его кровь личной обездоленности, живой конкретно ощутимой открытой раны. В иных городках бывшей в России черты оседлости целые улицы иногда оглашаются диким рычанием осиротелых семейств, которые больше не увидят близких им людей. Насколько еврейские проводы отличаются от традиционно христианских проводов по разстанным улицам, с шествующим впереди духовенством в пышных облачениях, с хором певчих, стройно и музыкально исполняющих свои безмятежные и гениально шлифованные гимны. В одном случае всё – плоть и жизнь, а в другом – всё театр, всё священнодействие, и если тут существует ещё истинное горе, то лишь постольку, поскольку оно не христианское. Эти длинные в процессиях черные крепы и темные платья женщин, весь этот ипокритный наряд церковной церемонии, производит особенно тяжелое впечатление ненатуральности, почти ходульности, по сравнению с нищенскими проводами старозаветной еврейской семьи. Тут всё подлинно в своей большей реальности: горе тоже может быть валютным рядом с церковной ассигнацией.
Обратимся теперь к одному из замечательных офортов Рембрандта 1639 года. Изображено успение Богоматери. Всё в этом офорте заслуживает внимательного научения по всем его деталям. Балдахин на пышных разных столбах взят как бы из жреческой эпохи царя Соломона. При богатстве орнамента и откинутых портьер, балдахин этот дышит строгостью иудейского стиля. Это настоящий ковчег, в котором лежит расстающаяся с жизнью женщина. Кажется, что если собрать откинутые покрывала, то весь балдахин-шатер получит свою особенную архитектурную жизненность. В этом ковчеге жрец, со сказочно-высокой митрой, дополняет впечатление ветхозаветного ковчега. При всей помпезности явления в нём не чувствуется никакой декламации. Этот перво-священник воплощенная грусть. Сложенные почти до плача губы сдержаны великою мудростью семитической культуры. Это такая фигура, торжественная и вместе с тем простая, сошедшая с рельефа какого-то саркофага давно минувших столетий и перенесенная сюда на медную доску иглою великого воссоздателя, что глаз зрителя приковывается к ней с первого же взгляда на офорт. Стоящий рядом с ним храмовой служака держит высочайшую хоругвь: это единственная в картине деталь, где ощущается христианская тенденция, мало согласованная с остальными существенными чертами дивной композиции. Самая хоругвь эта, в своём обособлении от всего прочего, не может однако отравить общего впечатления и, даже напротив того, непомерно высокий, вертикально утвержденный, резной и великолепный тонкий столб возносит к небу мысль в общем её подъеме. Тут же рядом со служкою великолепная экспрессивная голова старца, наклонившаяся вперед, в направлении балдахина. В старике этом каждая черточка живая и бытовая и при этом строго серьезная. За столом, перед раскрытою книгою, сидит человек в восточной чалме, лица которого мы не видим. На одном из оттисков глазам мерещится увеличительное стекло в правой руке чтеца. Он приостановил чтение и, повернув голову, смотрит на умирающую Марию. Игла офортиста представила нам этого человека, при всём великолепии его наряда, в близком и естественном освещении. Иератический элемент здесь не преобладает и вытесняется человеческими чувствами. На правой от зрителя стороне представлено несколько замечательных фигур. При входе в покой, у занавеси, расположились на полу две служанки, не допускающие сюда посторонних посетителей. Слева от них три фигуры поглощены охватившей их скорбью. Одна из них, апостол Иоанн, протянула вперед руки, из которых видна только левая, живо напоминающая положением раскрытой ладони руку Христа в «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Вообще фигура эта итальянизирована. Перед Иоанном – женщина на коленях, с молитвенно сложенными руками, изображает, надо думать, евангельскую Магдалину. Наконец, третья фигура, рядом с только что описанными, стоящая у самого балдахина, тоже женщина, застыла в безысходной муке. Кисти её, в отступление от молитвенной сдержанности, конвульсивно сомкнулись врезавшимися друг в друга пальцами. Лицо приподнято кверху, выражение глаз помутнело как бы от налетающей тьмы. Всё на этой женщине, аристократической по виду, по осанке, по стройности изысканной фигуры, в высшей степени иудаизировано. Это хорошая породистая еврейская женщина наших дней. Моя мать былая такая же. Я имел отраду видеть много таких благородных представительниц семитской расы в провинциальном быту. На них чудесный бывает иногда туалет – без кокетливых складок, прямой и гладкий, всегда благочестно прикрывающий ковчег тела. Туалет именно удивительно гармонирует с настроением описываемой фигуры. Она является как бы живой кариатидой в дополнение к столбам балдахина. Фигура в целом и в частях абсолютно иудейская, антиипокритная во всех смыслах слова, – по жестам, по выражению лица, по характеру приподнятой головы, столь интимно связанная с этнологией и психологией еврейского народа, что вытянуть такое создание из души мог только художник-еврей по духу или по происхождению. Это не фигура из калейдоскопов Гирландайо и Леонардо да Винчи, даже не из «Поклонения волхвов» этого последнего художника, где так же разительно слиты между собою декоративные части великолепных античных зданий и чистейшего проявления человеческого чувства. Это – настоящий Рембрандт.
Остается ещё рассмотреть центральную группу офорта вместе с самой умирающей Богоматерью. Вслед за плачущей женщиной фигуры этой группы располагаются по двум рядам – ближайший к постели и дальнейший. Один апостол, лохматый, с непокрытой головой, склонился над постелью, опираясь на неё обеими руками. В фигуре нет ничего иератического, и о волнующих её чувствах, реальных и обыкновенных, мы можем догадываться по общему положению тела и головы. Само лицо апостола прямо взято из толпы. В печальной его экспрессии нет ничего торжественного или условного, как на картинах нидерландских мастеров Ван дер Гуса и Клеве, о которых мы говорили выше. Недалеко от апостола помещен другой апостол, с головным убором и в широком плаще. Лица его повернулось влево и выражает тихую, вдумчивую, внимательную грусть. Привычным жестом врача он щупает пульс умирающей. Этот жест почти кардинален в картине. Если вспомнить высокие свечи, которые влагали в руки лежащей Богоматери другие мастера, придавая своим произведениям церковно-стилизованный характер, то естественное движение человеческой помощи и участья покажется почти тривиальным любителям сакраментального письма. Но эта-то тривиальность и составляет одну из главных прелестей несравнимого офорта. Простыми чертами, взятыми из реальной жизни, Рембрандт достигает эффектов гораздо более потрясающих, чем иконописные живописцы рассмотренных школ. Что такое ощупыванье пульса в таких условиях, как не справка о том, идут ли ещё часы угасающей жизни или они уже остановились? И такая справка, при горестном выражении лица, в котором нет ничего показного, при незатейливой скромности всего наряда, всего облика человека, производит огромное и в то же время освежающее впечатление. В христианском ритуале человеческая печаль тонет в море торжественной церемониальности. Свечи горят с безучастною возвышенностью, точно ни в этом, а в каком-то ином мистическом миру. По христианскому ритуалу, когда бы ни умер человек, ночью или в яркий полдень, свечи непременно горят. Но свеча, горящая при дневном свете, неизбежно приобретает значенье трансцендентального символа. Только ночью её свет нужен и понятен. Но и в темный час ночи такая свеча призвана не освещать внутренность комнаты, а быть светильником молитвенных настроений и устремлений, которым решительно и абсолютно это не нужно. Тут один подлинный взрыв внутреннего чувства, без малейшей помпы, изображенный со всею возможною реальностью, без малейшей идеализации, дает в картине весь тот эффект, который необходим для цели художника. Намекнуть, что часы жизни, в плоскости зримого и осязаемого, останавливаются, что отсюда пойдет темнота и слепота, что дорогое существо станет вот-вот невидимым, что отныне, с этой роковой минуты, общения с исчезающим человеком придется искать в других путях, средствах и формах, что, наконец, затерявшаяся индивидуальность может раскрыться лишь в чтении всеобъемлющей книги космоса – всё это значит придать картине небольшим штрихом, правдивым и интимным, действительно бесконечные перспективы момента. Это и сделал Рембрандт прикосновением офортной иглы. Такого эффекта мы не встретим ни на одном из холстов или графических досок мира.