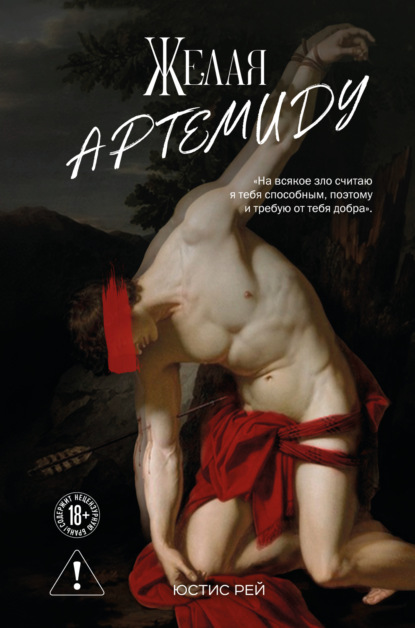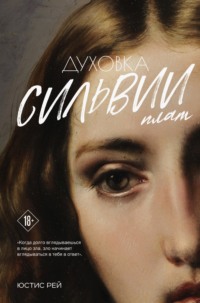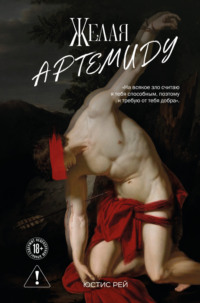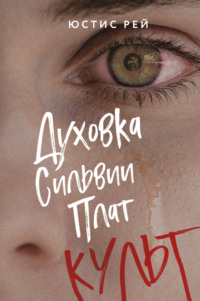Полная версия
Параллельная вселенная Пеони Прайс
– Этого я не говорил. – Он переходит к другому столику. – К тому же ты и этого не делаешь.
– Когда-нибудь я войду в эти двери, и ты поразишься, насколько я буду шикарна.
– Ты не вспомнишь об этих дверях, если это случится.
Я не спорю.
Снова повисает тишина, я лениво вожу щеткой по полу.
– Так, значит, ты не исключаешь такой возможности…
Он вытирает последний столик, кидает тряпку на барную стойку, подходит ко мне и вырывает щетку из рук.
– Не исключаю возможности, что, проводя меньше времени в соцсетях, ты не забыла бы, как этим пользоваться.
Я корчу гримасу, а он принимается за пол.
– Да что с тобой такое?
– Это со мной что такое? – Он выпрямляется и на пару секунд прикрывает глаза, словно считает про себя, чтобы не сболтнуть лишнего. – Ты в самом деле считаешь, что в обязанности бариста входит протирание столов и мытье полов?
– Наверное.
– Ты меня когда-нибудь слушаешь?
– Иногда, – признаюсь я, едва кивая, – но по большей части я просто смотрю, как движется твоя челюсть.
– Тогда я скажу еще раз и прямо: я получаю одну зарплату, а работаю за нас обоих. И дело тут не в деньгах, но вот немного благодарности не помешало бы.
– Ну что ж… большое спасибо.
– Большое пожалуйста.
Я прищуриваюсь:
– А почему ты это делаешь?
– Потому что… – Он явно теряется. – Потому что мне проще потратить пятнадцать минут и сделать самому, чем просить тебя и полчаса выслушивать, почему ты не станешь, таким образом тратя почти час на плевое дело.
Я пожимаю плечами:
– Это ведь твой выбор, верно?
– Да, определенно мой. – Он кивает и закусывает губу. – Ты… ты знаешь, тебе очень повезло с работой. Ты днями ни черта не делаешь и получаешь за это деньги. В другом месте тебя бы давно выставили.
– Это все?
– Меня ужасно бесит то, как ты ведешь себя с людьми.
– И как же я веду себя?
– Так, будто окружающие – рабы, не желающие продолжать строительство твоей усыпальницы.
– Что, прости?
– Как бы ты ни относилась к этому месту, это твоя работа, ты должна ее выполнять, потому что она приносит тебе деньги.
– Деньги? Да разве это деньги? Едва на проезд и хот-дог на обед хватает. Что это за такая великая работа? Каковы перспективы? Завтра ты позволишь мне отдраить унитаз?
– Нет, – выдыхает он, – этим я займусь сам. Как и вчера, и позавчера, и все дни подряд.
– Вот видишь, а у меня другие перспективы, и для этого мне необязательно чистить унитазы.
– Похоже, природа была не особо щедра, наделяя тебя совестью.
– Зато достаточно щедра, наделяя мозгом, который советует поскорее бежать отсюда. И тебе, кстати, тоже.
– Неужели я обязан все это выслушивать? – бормочет он.
– Чтобы ты знал, я собираюсь на кастинг в рекламу через неделю, а там и до ролей в кино недалеко, а потом и до самых престижных наград в кинематографе.
– Кто же тебя так жестоко обманул? – Глаза-воронки не моргая смотрят на меня.
– Ты хоть знаешь, с чего начинал карьеру Аарон Пол?
– Я даже не знаю, кто такой Аарон Пол.
– С рекламы кукурузных хлопьев! – выпаливаю я. – А Тоби Магуайр – с рекламы сока, а Сальма Хайек – с рекламы сети закусочных… – Он молчит, а я продолжаю: – Брэд Питт в свое время работал аниматором в костюме цыпленка, а Джим Керри вообще был уборщиком, как и Киану Ривз. Так что все, что происходит здесь… – я обвожу рукой зал, – никак не характеризует меня и не определяет мое будущее.
Он еле заметно усмехается. Что бы я ни говорила, он само спокойствие. Я едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на него. Вовремя останавливаю себя, выдыхаю, выпуская напряжение. Давно пора признать, что невозможно победить соперника, используя остро заточенный нож, если у него в арсенале снайперская винтовка.
– Я не хочу тебя разочаровывать, но, знаешь, мир выглядит совсем иначе для тех, кто видит дальше собственного носа. Брэд Питт, Тоби Магуайр, Джим Керри – исключения из правила. А правило таково, что миллионы Брэдов, Тоби и Джимов прыгают в костюмах куриц и метут полы, оставаясь там, где они есть, до конца жизни. Я не считаю это трагедией, потому что, как ты и сказала, не всякая работа характеризует человека. Но я все равно не стал бы так нагло себя обманывать.
– Думаешь, ты все знаешь, мистер Умный Умник? Пусть так, поскольку сейчас у меня нет весомых доводов. Но я уверена, что стану этим, как ты говоришь, исключением. Эта работа – временное неудобство на пути к моей блестящей карьере.
– Что ж, полагаю, я могу избавить тебя от этого неудобства. – Он опирается на ручку щетки. Кажется, через пару минут он воспользуется ею как копьем.
– О чем ты?
– Почему бы тебе не найти другую, менее неприятную работу?
У меня отвисает челюсть.
– Знаешь что, это отличная идея!
Я снимаю передник, кидаю на скрипящий стул, хватаю рюкзак и вешаю на плечо.
– Книгопечатание было отличной идеей. Открытие пенициллина было гениальной идеей. А это просто предложение – и довольно опрометчивое к тому же…
– Может, твою мать, заткнешься?
Он тяжело выдыхает и косится на банку для платы за ругательства, которую завел специально для меня – он-то в этом плане душка.
Я подлетаю к кассе и запускаю пятерню в банку. Монеты позвякивают, ударяясь друг о друга, падают на пол, когда я вытаскиваю руку. Запихиваю то, что удалось удержать, в карман толстовки.
– Ты меня не выгнал, ясно? – заявляю я, оборачиваясь. – Я была готова уйти отсюда, прежде чем пришла, и теперь наконец сваливаю! Мне больше не нужна работа в этой дыре для неудачников!
Не дожидаясь ответа, резко разворачиваюсь на пятках, толкаю тяжелые двери и выбегаю в гнетущие сумерки.
Беги-беги! Ты никакая не звезда. Ты просто неудачница!
4
– Мам, пап, я дома! – кричу я, закрывая дверь.
Дом, милый дом. Пусть он маловат для четверых, а мебель не менялась с моего рождения, но он все же милый. Из кухни доносится запах лазаньи. Закатываю глаза.Только не еда! Желудок возражает урчанием.
Я совсем без сил, будто дементоры[12] высосали из меня все подчистую, как из коробки сока. Опускаю рюкзак на пол, его содержимое напоминает о себе неприятным побрякиванием. Двигаюсь в гостиную. Маленькая комната с бежевыми стенами и деревянными книжными стеллажами – мое любимое место в доме, хотя побыть здесь в одиночестве удается нечасто.
Папа сидит у окна в скрипучем кресле, обитом коричневой рогожкой, и читает бесплатную газету. Делает он это в полумраке, почти темноте, за что мама часто ругает его.
По телевизору сменяют друг друга кадры вечернего ток-шоу Джерри Стоуна – мужчины с безупречной дикцией и улыбкой. Вообще-то, папа недолюбливает Джерри, считая его напыщенным и лживым, однако в глубине души он немного завидует ему, так как уверен, что нет ничего проще, чем получать деньги за болтовню перед камерой.
Я включаю свет и скрещиваю руки на груди, опираюсь плечом на косяк двери. Папа морщится, полуседые брови сдвигаются к переносице, взгляд бегает по строчкам.
– Я и так прекрасно видел, – замечает он, – но спасибо.
– Мама не выдержит, если придется снова менять линзы в твоих очках.
Если придетсятратиться на линзы в его очках.
– Но мы же ей не скажем, верно? – Он подмигивает мне правым глазом поверх газеты.
– Где она, кстати?
– Отдыхает наверху – сегодня выдался тяжелый день…
– Быть успешным легко! – утверждает поставленный мужской голос в рекламе по телевизору.
Мы с папой понимающе переглядываемся. В его взгляде читается нечто вроде: успех в телевизионной карьере пропорционален отсутствию мозга. Папа возвращается к газете.
– Интересно, им знакомо значение слова «успех»?
– Или хотя бы значение слова «легко», – продолжает он.
Мы с папой частенько думаем об одном и том же – он часто говорит, что гении мыслят параллельно.
– Пап, я… Дашь мне немного денег?
Я так бездумно сбежала из кофейни, взяв лишь пару центов, что теперь мне едва хватит на проезд.Ты никакая не звезда. Ты просто… Да-да, неудачница. Заткнись уже!
Он опускает газету и обращает на меня зеленые глаза, которые, словно солнце, окружены лучиками морщинок. Он смотрит секунд пять, но, кажется, видит меня насквозь. Видит, как я отправилась в кофейню, а не на учебу сегодня утром, как собирала и мыла посуду, как говорила с Мелани, спорила с Кевином, ковыляла обратно… Как ходила на прослушивание за прослушиванием и получала отказ за отказом. Как врала ему каждый день последние полгода. Может, внутренний голос не так уж не прав?
– Сколько? – наконец спрашивает он.
– Долларов тридцать.
Куплю проездной на неделю, найду новую работу, а потом отправлюсь на кастинг и получу чертову роль.Все так и будет, Пеони, все так и будет… Если бы я могла лишить себя одного качества, то им была бы язвительность, чтобы внутренний голос тоже лишился ее.
Отец ерзает в кресле и кладет газету на кофейный столик, где стоит рамка с фотографией, на которой запечатлены папа, мама, Энн и я у входа в Диснейленд. Я помню этот день так, словно он был вчера. Было жарко и весело. Правда, меня не покидала мысль, что Микки и Минни отключатся из-за теплового удара.
– Не трать на ерунду, – говорит папа и протягивает деньги.
– Спасибо, пап. – Я беру купюры и прячу в карман толстовки к монетам, которые взяла в кофейне. – Тогда… спокойной ночи.
– У тебя все хорошо? – интересуется он. Похоже, он знает ответ, но дает возможность выговориться.
– Знаешь, с каждым днем все чаще кажется, что между мной и этим миром существует какое-то недопонимание.
– Мир – сложная штука, Пеони, но это не значит, что ты не разберешься в нем, – отвечает он и, как всегда, дает небольшую надежду, которая ускользает от меня после каждой неудачи.
Неудачи, неудачи, неудачи – порой кажется, что только на них я и способна.
– Спокойной ночи, – почти шепчу я.
Его рот трогает усталая улыбка.
Отправляюсь на кухню, пропахшую недавно разогретой лазаньей. Я не люблю кухню, здесь либо пусто, либо кто-то ест,заставляя меня поглощать лишние калории и увеличивать и без того немалые формы. Но что поделать? Желание приглушить тревогу посредством лишних углеводов и жира всегда оказывается сильнее желания влезать в самые маленькие джинсы в магазине.
Положив ноги на стул, моя младшая сестра Энн ест лазанью и параллельно читает книгу. Многозадачность – отличительная черта нашей семьи, по крайней мере всех ее членов, не считая меня. В животе урчит от запаха еды.
– Тебе положить? – спрашивает сестра, не отрываясь от книги.
– Нет, я не голодна.
Наглая ложь! Я мечтаю съесть слона, но наливаю в стакан воду и сажусь рядом с Энн. Она дочитывает и кладет между страницами закладку, в качестве которой всегда использует собственные рисунки. Сегодня это набросок пляжа Санта-Моника, на который мы часто ездили всей семьей, когда Энн была крохой.
Она поднимает взгляд и с минуту смотрит на меня, не по годам умное лицо успокаивает. В животе снова предательски урчит.
– Ты точно не хочешь поесть?
– Не могу. Мне нужно похудеть для съемок.
– Ты и так хорошо выглядишь.
– Ты говоришь это, чтобы мне стало легче, или вправду так думаешь?
– Я думаю, что ты слишком много думаешь.
– В таком случае вот одна из моих многочисленных мыслей: я хорошо выгляжу только для рекламы чехла от дирижабля.
Я пью воду, чтобы заглушить голод.Реклама в бикини сама меня не похудеет.
Энн смотрит с укоризной.
– Понимаешь, для этой рекламы нужна очаровательная улыбка, блестящие волосы, подтянутая попа и… ноги.
– Ноги? – удивляется она. – У тебя две. А сколько надо?
Ей не понять!
В отличие от меня ей досталось от родителей лучшее: миндалевидные зеленые глаза от папы, темно-каштановые волосы от мамы и недюжинный интеллект от них обоих. Я же похожа на некрасивую злобную сестру, прямо как в сказке про Золушку.
В детстве каждая девочка, смотря диснеевские мультики, представляет себя прекрасной принцессой: Белоснежкой, Ариэль, Авророй – ни у кого не возникает мысли отождествлять себя со Злой королевой, Урсулой или Малефисентой. Все хотят нежный румянец, упругие кудри и прекрасного принца, а не быть отвергнутыми, побежденными и забытыми.
Только жизнь не диснеевская сказка…
Ты разложишься быстрее, чем одноразовый стаканчик…
Не все девочки могут похвастаться кудрями и ресницами. Вот и я не могу, хотя в детстве никогда не мечтала быть отрицательным героем. Мои волосы, лоб, глаза, губы нельзя описать иначе, чем посредственные. Считается, что истинное горе – это уродство, но нет, быть призраком, тенью среднестатистического – вот что ужасно. Ты есть – хорошо, тебя нет – тоже хорошо. Пожизненный человек-невидимка. Но стоит признать, что я не переживала из-за посредственной внешности. Не переживала, пока не соприкоснулась с миром шоу-бизнеса и рекламы, в котором тут же нашлись люди, нашедшие недостатки, о которых я не подозревала.
Сестра теряется на время, в чем-то сомневаясь, но все же спрашивает:
– Ты им скажешь?
– Кому и что я должна сказать?
Она подвигается ближе, челка падает ей на глаза, она возвращает ее на место наклоном головы. Глаза вспыхивают.
– Ты ведь не ходишь ни в какой колледж, – шепчет она заговорщицки. – Я знаю.
Я замираю со стаканом в руке.
Мы все понимаем – и давно, но предпочитаем не обсуждать.Оказывается, наличие шерлокоподобной сестры не всегда играет на руку.
– Не говори им, – шепчу я.
– Ребята из школы видели, что ты работаешь в кофейне…
– Поверь, о таком социальном дне я не мечтала и далеко не в восторге от этой дурацкой работы…
…К тому же теперь у меня нет и ее.
Она морщит нос, а после качает головой, словно отгоняет надоедливую муху.
– Да при чем здесь это? Родителям будет больно не потому, что ты работаешь в кофейне, а потому, что столько обманывала их. Им обязательно кто-нибудь расскажет, и лучше это будешь ты.
Я понимаю, что им будет больнее, если они узнают это от кого-то другого, но, каждый раз возвращаясь домой с желанием заговорить об этом, я встречаю теплую улыбку и усталый взгляд и не решаюсь признаться. Язык немеет, становится свинцовым, прижимается к нёбу, сердце скачет галопом, руки трясутся, ладони потеют, и я, сглатывая эту новость, снова и снова молчу.
– Ты слишком мала, чтобы давать мне советы, – отмечаю я.
Старшинство – мой единственный козырь в беседах с сестрой, но срабатывает он нечасто.
– Ты не настолько стара, чтобы говорить мне такое, – парирует она, ничуть не растерявшись.
– Туше, – признаю я и киваю на ее книгу. – Что это у тебя? – спрашиваю я, хотя и без того знаю ответ.
– «Планета Красной камелии» Ричарда Бэрлоу, – объявляет она, поднимая книгу так, чтобы я увидела черную обложку с красным цветком.
– О чем она?
На лице Энн появляется улыбка. Я знаю, что это значит: сейчас она сядет на любимого конька под названием «Книги Ричарда Бэрлоу».
– Эта история о девушке Скарлетт, которая живет на планете страшных существ – камелоидов. Люди для них рабы, и Скарлетт тоже. У нее нет никого, кто поддерживает ее. Но потом она сбегает из дома и отправляется в путешествие за красной камелией и находит любовь…
– Надо же, читать об этом так же скучно, как ты рассказываешь? – Я выпиваю воды, в животе все сворачивается от запаха лазаньи.
– Вообще-то, это международный бестселлер, переведенный более чем на пятьдесят языков.
– Почему же?
– Потому что отлично написано.
– Или потому, что в этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и несчастье других.
– Ничего ты не понимаешь, – выдыхает она.
– Может, и так, но, знаешь, мне и без выдуманных проблем хватает забот.
– Ты не осознаешь своего счастья.
– Понять бы какого.
– Посмотри вокруг… – поддается она вспышке бессильной досады, вскидывая руки, – тут столько всего, за что можно благодарить.
В детстве сестра обожала играть в семью с куклами, она укладывала их спать, мыла, одевала, кормила и учила так, словно они были живыми. С тех пор мало что изменилось: Энн ведет себя как курица-наседка, хотя ей всего четырнадцать.
– Да, например, за тебя, – усмехаюсь я и щиплю ее за щеку, а она картинно морщится и отодвигается.
Я встаю.
– Тебе тоже стоит прочитать…
– Ты же понимаешь, что в жизни все намного сложнее, чем в книгах…
– Роман планируют экранизировать, – как бы невзначай добавляет она.
Я сразу оживляюсь.
– Кто сыграет главную роль? Будет прослушивание?
– Кажется, Эль Фаннинг.
– Из «Малефисенты»?[13] Как по мне, роль моли – единственное, на что она сгодится.
– Ты просто завидуешь.
Естественно, Шерлок!
– Не завидую. Мне лишь грустно, что удача поворачивается лицом к ней, а не ко мне.
– Удача и к тебе поворачивается лицом.
– В этой дыре я вижу только ее задницу, – отвечаю я и иду к выходу.
– Пеони!
Я оборачиваюсь.
– Так ты им расскажешь? – понизив голос, спрашивает она.
– Как?
– Просто берешь и открываешь рот. Там шевелится нечто под названием язык.
– Не сейчас… Сейчас не могу.
В ее взгляде упрек. Я приближаюсь к столу и обхватываю ладонями спинку стула.
– Что сказать? Что бросила учебу ради карьеры актрисы? Что работаю уборщицей в кафе? Они не поймут… – От этих мыслей на сердце появляется еще одна трещина, поэтому я и не завожу такие разговоры, иначе оно окончательно разлетится вдребезги.
– Ты не будешь есть все время до кастинга? – спрашивает она, немного помолчав.
– Мне это не помешает. – Я сжимаю кожу на щеках, показывая, что не истощена. – К тому же я где-то слышала, что те, кто голодает неделю, чувствуют себя гораздо лучше.
– Лучше кого? Тех, кто голодает две?
– Я же не навсегда отказываюсь от еды.
До первого обморока.
Она качает головой.
– Я обязательно все расскажу родителям, – продолжаю я, – когда что-то подвернется.
– Что подвернется?
– Когда меня возьмут на роль. Тогда у меня будут доводы.
– Но… – Она смущается, опуская глаза, а потом, решившись, смотрит на меня. – А если это никогда не случится?
На этот вопрос четырнадцатилетней девочки у меня нет ответа.
5
Я поднимаюсь на второй этаж и заглядываю в спальню родителей. Мама сидит за столом и что-то пишет при желтом свете лампы. Прохожу в комнату. Мама пишет, не отвлекаясь, а потом пересчитывает деньги, лежащие перед ней.
Она страховой агент и беспокоится о рисках не только десятков других людей, но и нашей семьи. Ее страсть к деятельности не знает предела: она работает на работе, работает дома, работает, когда здорова и когда больна. Мне кажется, ее мозг не отдыхает даже во сне.
Если сравнить нашу семью с библиотекой, то папа – это книги, прочно стоящие на полках, Энн – смотритель, заботящийся о них, спасая от пыли, а мама – свет, помогающий им встретиться. Какое место в этой стройной системе занимаю я? За двадцать лет мне так и не удалось выяснить.
Смотрю на ее серьезное выражение лица, сложив руки на груди. Мама напоминает дракона из «Хоббита», чахнущего над златом. Она настолько сосредоточенна, что это вызывает невольную усмешку.
– Папа думает, что ты отдыхаешь.
Она заканчивает считать.
– Да, а еще он думает, что у меня нет седых волос. Мужчинам не нужно все знать – для их же блага.
Я мельком заглядываю в ее записи. С каждым разом количество строк в колонке «Расходы» становится больше, а в графе «Доходы» – остается прежним. Одна из главных статей расходов, которая тянет нас на дно, – мое обучение. Вина поглощает меня, становится настолько гнетущей, что немеют пальцы, а во рту появляется привкус крови от того, как сильно я прикусываю щеку.
– Все хорошо? – спрашиваю я, когда мама встает из-за стола.
– Что нам станется? – отвечает она, но, судя по тону, понятно, что станется, и скоро, однако беспокойство скрывается за улыбкой. За двадцать пять лет брака она стала такой же, как у отца: доброй, но усталой.
Мама часто так отвечает, и я знаю, что это значит: до следующей зарплаты Энн ожидает обед из тостов, намазанных самым дешевым джемом, папу – чтение бесплатной газеты, меня – старая одежда, всех нас – полуфабрикаты на ужин, которые больше похожи на подошву вонючих ботинок. Но все же нечто хорошее в этом есть: я села на диету и смогу сэкономить. Разве не здорово?
– Если хочешь, в следующий раз посчитаем вместе, – предлагает она, снимая серьги с жемчугом, которые отец подарил ей в прошлом году на годовщину.
Еще чего!
Я морщусь, давая понять, что думаю насчет ее предложения. Да, я знаю, насколько важны деньги, но не имею ни малейшего понятия о соцобеспечении, налогах, ОМС[14] и прочей ерунде, связанной с финансами, и, честно говоря, не хочу иметь. Цифры пугают и вгоняют в уныние. Не понимаю, как мама не спятила на почве постоянной нехватки денег.
– Как думаешь, я когда-нибудь стану актрисой?
На самом деле я спрашиваю, перестану ли когда-нибудь трястись над каждой копейкой.
Мама оборачивается.
– Думаю, ты станешь, кем захочешь, а с дипломом юриста тем более.
Страшно представить, что произойдет, когда они узнают, что у меня его никогда не будет…
Окончательно раздавленная мрачными мыслями, желаю маме спокойной ночи и ползу в свою комнату. Хотя назвать это помещение комнатой можно с большой натяжкой – так, каморка для человеческого детеныша: поцарапанный шкаф, кровать с железным изголовьем, небольшой деревянный столик у окна и выцветшие плакаты на стенах – знаменитости, многие из которых мне уже не нравятся, но я слишком ленива, чтобы снять надоевшие постеры.
Открываю скрипящую створку окна и вдыхаю полной грудью. Тишина. Только где-то вдали едва слышатся гудки автомобилей – вязкая густота воздуха приглушает их. В доме напротив гаснет свет. Высоко в небе, словно привязанная невидимыми ниточками, висит полная луна, красивая, но такая далекая… как и мои мечты о Голливуде.
Плюхнувшись на кровать, достаю из кармана телефон и снова захожу в профиль в соцсети. Количество подписчиков давно не растет, но хотя бы не падает. Двести пятьдесят три человека все так же готовы лицезреть мои селфи, обеды и закаты – больше в моей жизни смотреть не на что.
Из любопытства проверяю профили бывших одноклассников. «Бытовой» сталкинг[15] – пагубное времяпрепровождение, с которым я не расстаюсь последние полгода и которое соцсети превращают в ежедневную пытку. Странички пестрят яркими фотографиями: кто-то учится в престижном университете, другие тусят по клубам с утра до ночи, третьи переехали в Европу, четвертые завели блог, пятые нашли любовь, а я… я там, где я есть. От этой вселенской несправедливости сердце ноет и скачет галопом. Сначала хочется выйти в окно, а через секунду – показать им, что я могу добиться всего и даже больше, чтобы они сталкерили меня в соцсетях, а потом снова выйти в окно – дурацкий непрерывный круговорот самобичевания.
От ярких фото и нескончаемого потока информации голова увеличивается, как воздушный шарик. Если где-нибудь на лбу располагался бы индикатор, издающий звук при критической ситуации, то он уже мигал бы красным и пищал.
Казалось бы, что может быть проще, чем переместить палец с экрана на кнопку блокировки и одним движением потушить этот яркий выдуманный мир? Но я не останавливаюсь. Я буду листать, не всматриваясь, пока у телефона или у меня не закончится заряд, пока из ушей, глаз и носа не польется кровь.Может, это остановит меня от бездарной траты времени?
Почему у всех получается, а я стою на месте? Словно попала в Неверландию, где обречена до конца времен быть никем. Что в них такого, чего нет во мне? Я недостаточно упорна, умна, талантлива, красива или худа? Неужели я ошибка природы? Сбой в системе? Что со мной не так?
Стоп!
Резко блокирую экран, закрываю глаза и выдыхаю. Веки – тонкие складки кожи, шторки из плоти, не уничтожающие мир, но на время отгораживающие от него. Как же хорошо, что они существуют… Но спасительной темноте под веками не ответить на главный вопрос: что со мной не так? И следующий за ним: как это исправить?
Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. И я бегу! Несусь, стирая ноги в кровь, полгода бьюсь во все двери, а снялась лишь в одной рекламе чертовых хлопьев. Возможно, если бы родители поддержали меня, стало бы легче, но они, пусть и считают меня умной, прилежной и талантливой, не воспринимают всерьез мое намерение сниматься в кино, да и Энн хоть и не говорит, но тоже считает, что мои желания имеют мало общего с реальностью.Конечно, ей легко говорить – она вундеркинд, а что делать тем, кому повезло меньше?