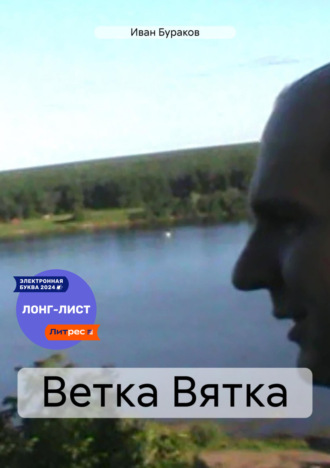
Полная версия
Ветка Вятка
– Поэтому то народ и выступал здесь… – отзывается папа, – …как на броненосце «Потёмкин»
– В потёмках, – слегка опаздываю я на конец фразы, прикрепляя к нему шибко бородатую шутку.
– Другие какие-то маршруты искать нужно, – обсуждает дорогу мама.
– Через Кинешму надо ехать в следующий раз, – поддерживает её водитель, – Через Кинешму.
– Зачем через Кинешму? – неуклюже, словно медведь в лесу, опять пытаюсь я влезть в разговор, – Через этот… Через Иваново нужно.
Дурацкое предложение, географию своей страны ты совсем не знаешь, сынок. Никто, естественно, так не скажет.
– Это и есть через Кинешму, через Ивановскую область. Там тоже мост через Волгу, – терпеливо объясняет мама.
Затем она вновь переключается на мост костромской, обращаясь к мужу – А ты говоришь мне: сделали, сделали…
– Да я посмотрел на навигаторе нет «красного». Думаю, значит всё, а это он не показывает просто, чтобы не расстраивались, наверное, – отшучивается наш рулевой.
– В прошлый раз мы с тобой в пятницу проезжали здесь, по-моему, – продолжает мама, – как раз все и попали в пробку. И пошло-поехало. Все доползали до этого самого…
– До Судиславля, – помогает папа.
Машина наша тем временем доползает до «заволжского» берега. Он надвигается золотом куполов храмов, старинной бурной постройкой и отелем «Вольга», с его монолитом стен. На дороге первая развилка. Полосы глянцевой белой разметки разбегаются в три стороны.
– Вань смотри куда нам, – переключает внимание папа на себя.
– Нам прямо.
– «Вольга», – читает мама надпись, – отель что ли? Отель «Вольга». Вот он прям на берегу Волги. Какой интересный. В Кострому поедем, надо будет в следующий раз здесь остановиться. На берегу Волги у «Вольги».
10. Город разбитой фотографии
На фотокарточке, что сейчас держу я перед своими глазами, остался, застыв в вечности, город. Город этот не высокоэтажной постройки. Двух, трёх, четырёхэтажные дома максимум, с коньковыми железными крышами замешаны коктейлем с частными деревянным одноэтажками. Коктейль получился пенистый, молочный, с правильными улицами, стремящимися к главной площади, над плиткой которой возвышается белый, похожий на гипсового пионера, Владимир Ильич, указывая вперёд в светлое будущее своей уверенной рукой.
Приглядываешься внимательнее к фотокарточке города и оказывается, что она в рамку зашита, а рамку эту когда-то давно неаккуратно на краешек стола поставили. Дальше всё как по сюжету известной сказки: мышка пробежала, хвостиком махнула, рамка упала и пошли по ней трещины. Много-много трещин образовалось. Покрывают они теперь стены, делят на части асфальт, ползут по фасадам и крышам, по памятникам и мемориальным табличкам. Город разбитой фотографии: «фотография девять на двенадцать, с наивной подписью на память».
Воздействию треснувшей рамки подвержено всё: знаменитые каменные львы, выкрашенные позолоченной краской и распластавшие свои тела на ступенях бывшего дома купца Третьякова, переоборудованного в диспансер для больных туберкулёзом во времена Союза; далее продолжение этого же строения, фасадом выходящее на главную улицу – Комсомольскую. На фасаде на втором этаже угловой балкон, широкий, вместительный, для стола, стульев, гостей и чайных церемоний. Отсюда хорошо, наверное, было томными вечерами следить за тихой провинциальной улочкой. А за всей невысокой городской постройкой проглядывают, возвышаясь высокие корпуса более современных зданий – больничный комплекс, глядящий на нас пустыми глазницами выломанных окон. Стены в тех же трещинах от разбитой рамки.
– Что случилось с тобой? – будто спрашиваю я у комплекса.
– Бросили строить меня, – кручинясь, отвечает недострой.
– Когда это случилось?
– А, как Союз пал, так всё и умирать стало.
Антураж русских городков, на веки потерянный и позабытый в столице, манит к себе, приковывает взгляд. А нас манит собор на горе, к которому мы и направляем свой путь.
Собор Спаса Преображения встречает надписью на придорожном камне, похожем на сюжет «налево пойдёшь… направо пойдёшь…»: «Охраняется государством». Год установки камня и надписи, а также и подпись под самой надписью, намекают на то, что охраняет собор РСФСР. Но камень с надписью – всего лишь прелюдия, далее идёт крутой подъём по дорожке, выложенной каменной крошкой утыкающейся своим любопытным мокрым носом в массивную арку ворот и гордые каменные стены, всё белого цвета с синей окантовкой, подчёркивающей же белый.
– Как кремль выстроен, – указывает на стать собора папа.
И опять под слова родителя воображение наполняет голову яркими красками: вечер опускается на город, хмурый, суровый в своём великолепии. Неприятельская армия идёт на приступ, темень разрывает вспышки зажжённых стрел и бутоны факелов. За стенами собора-кремля спасения ищут жители города. Защитники стен льют на головы огненную смолу, рубятся с нападающими. Крики, вскрики, ор, бряцанья и бой железа – всё смешалось в один протяжный мрачный стон. Чем завершится битва: ни нам, ни вам узнать не суждено, ибо картина, вызванная фразой и воображением, взнуздав гнедого, стремительно уносится из нашей истории в свою – вековую.
Мы на территории. Собор нависает над нами всей своей сорокатрёхметровой мощью колокольни и спутников-построек. Здесь тоже есть жизнь, правда жизнь тихая, теплящаяся своей нежной красотой. Будто родничок после схода сели вновь ищет себе путь на волю, на поверхность, на воздух. Превратится ли этот родничок в бурный речной поток? Время покажет, но речной поток здесь был, речной поток уже здесь бил.
Из собора к нам навстречу выпрыгивает чумазый чернявый мальчонка в большемерящей рубашке и таких же штанах.
– Дядь, дай монетку, – клянчат его уста, протягиваются его руки ко мне.
Всё как в классической литературе царских времён:
– Дядь, ну дай монетку.
Мне тут же вспоминается Харьков. 2007 год на дворе, больше десяти лет ещё до нашей поездки. Площадь перед железнодорожным вокзалом с поющими и танцующими фонтанами. Фонтаны поют:
– Моя краина Украина.
Вечерняя подсветка, брызги. Люди ждут ночной поезд, его же жду и я, коротая время со своими приятелями. Маленькая цыганская девочка в коротком грязном платье, так же, как и здешний мальчуган реинкарнирует отечественную классику:
– Дядь, дай монетку.
После отказа она проявляет настойчивость:
– Ну дай монетку!
Лезет обниматься. Получая желанный «кругляшок», пропадает со сцены в неизвестном направлении. Катя – жена одного из моих приятелей, наблюдавшая этот жизненный эпизод, коротко бросает в пространство, качая головой:
– Ну вообще…
Мальчуган чернявый, но глаза у него небесные голубые, не цыганские.
– Ты на себя то посмотри, – указывает мне голос.
Что за голос? Надеюсь это не раздвоение личности. Так вот, смотрю на себя и вижу очередной эпизод своей молодости (да-да, по меркам «юности» я уже глубокий старик, дорогие мои читатели. Ощущаю ли я себя таковым? – Это врятли). Сижу на деревянной лавке в сквере Народного ополчения Пролетарского района, что завис будто гимнаст между двух автомобильных перекладин Автозаводской улицы. Чего-то или кого-то жду, не помню. По скверу мимо меня идёт мужчина лет сорока-пятидесяти с классической внешностью военнослужащего в отставке. Из-под куртки выглядывает тельняшка, под носом дуга аккуратных коротких усов. По звукам его голоса можно понять, что мужчина расслабился и выпил.
– Хватит по одиночке в парках сидеть! Иди с девочками встречайся! И так, не рожаете, так он ещё в парке один сидит! Красивый русский голубоглазый парень! Правда волосы чёрные почему-то… Девчонок отбою не будет! Иди встречайся!
Вспоминая, его пассаж усмехаюсь, смотрю на мальчонку – вижу внешностью себя. Внизу, под холмом лежит Судиславль во всём своём великолепии и сердце на это великолепие родное отзывается. Ещё не на Вятке я, но Родина уже говорит:
– Ты дома, жаворонок!
11. Форпост
Наш автомобиль взбирается на очередной подъём. Надрывно гудит мотор. Лес, будто армия часовых плотно обступил трассу. В лучах яркого солнца, что бросает линии света на окружающий пейзаж, видно каждую чёрточку, каждый дефект старого асфальтового полотна. Дорога пуста. Редко когда тронешь руль, чтобы объехать яму или глубокую выбоину, а «неровности» те, что по мельче, объезжать нет смысла, они тут повсюду. На встречу проносится древняя потёртая «Тойота», неопределяемого цвета, слившегося в рыжую ржавчину. «Японец» считает колдобины дороги, весело на них подпрыгивая. Встречный автомобиль лишь на миг отпечатывается словно на картинке, на сетчатке глаза дабы заявить «вот он я», а затем напрочь уносится из истории взнуздав подкопотных коней.
Впереди тянет за собой кузов большегруз. Идёт медленно, идёт аккуратно, выискивая ровную «межу». Расстояние меж нами сокращается с быстротой равной длине звучания слова «эквилибристика», когда звуки растягиваешь, словно мех аккордеона.
– Ээ-квии-лии-брии-стии-каа, – вот так и уже выполз на пустую встречную полосу, и обогнал большегруз, и он отстаёт от тебя в зеркале заднего вида, растаивая за поворотом словно мираж в зелёной пустыне, а ты всё повторяешь: «эквилибристика», и гласные тянутся привязанные за нитку.
Все они (большегрузы ли, легковушки ли) таят в зеркале заднего вида, будто мороженое поставил на солнце, и оно медленно превращается в сладкую жижу, образуя капельки на шоколадной глазури.
У тебя, читатель, может создастся не верное впечатление, что одиночество пустыни в этих краях обманчиво, как у Быкова в «Истребителе», в той части, где белогвардейские «недобитки» в тайге под каждым кустом хоронились и за Полей Степановой подглядывали, пока она в чём мать родила по лесу лазила. Спешу тебя заверить, дорогой мой, это не так. Здесь одиночество больше походит на таёжную прозу Виктора Астафьева и Михаила Тарковского – скорее медведь из-за куста вылезет, чем человек. И Поле Степановой лазить по лесу более спокойней за свой срам… менее спокойней за свою жизнь (хотя последнее утверждение, несомненно, спорно).
Я обращаюсь мыслями к утренним часам текущего дня, и вместе с ними, прицепившись вагонами, с горкой нагруженными воспоминаниями, в голову влезают часы вечерние и ночные дня прошедшего. Судиславль – пройденный этап нашего путешествия, казалось «с глаз долой, из сердца вон» должен был улететь в прекрасное далёко, но он поразил собой, оставил след в извращённой душе столичного прозаика.
В Москве за лоском дорогих ресторанов, нейлоном всю ночь светящихся витрин и рекламных баннеров и вывесок, за сутолокой у магазинов и ларьков, у входа на станции метро, на автобусных остановках мы…ладно… я и не мог себе представить, что где-то существует жизнь иного склада и форпостом этой жизни выступает для меня Судиславль.
Вы много в Москве знаете зданий крепко на крепко связанных канатными тросами с Великой Отечественной войной? За торговыми центрами, бизнес-кварталами и новейшими ЖК они пропали, стёрлись, словно те самые встречные и попутные автомобили на трассе Р-243. А на главной площади Судиславля стоит двухэтажный дом с табличкой, гласящей: «В годы Великой Отечественной войны здесь жили эвакуированные из блокадного Ленинграда дети». «Вспомним блокадные скорбные были?»
От сквера с памятником Ленина, установленным ровно по центру, уходит стрелой в частную постройку улица Голубкова. На стене одноэтажного деревянного ветхого дома под номером 4, с приветливым палисадником, и облупившейся на дощатом покрытии краской (всё в стилистике старой фотографии в треснутой рамке) висит мемориальная доска: «Герою Советского Союза Алексею Константиновичу Голубкову». Дом смотрит на нас тёмными стёклами окон, с плотными шторами толи тёмно-зелёного, толи чёрного уже цвета (разобрать тяжело) за ними. Занавеска не шелохнётся, из дома ни звука. Кажется, дом вымер, но по состоянию самого дома – он ветхий, но не рушенный; и по состоянию палисадника – трава скошена, каждая вещь на своём месте; чувствуется заботливая рука хозяина или хозяйки.
Помнят героев былых времён в Судиславле. В сквере вокруг памятника Ленину установлены таблички, где перечислены герои, родом из Судиславля. Герои ушедшей эпохи, герои Родины, погибшей под предательскими ударами. Одиннадцать судиславцев в период Великой Отечественной Войны удостоены звания Героя Советского Союза, в честь пяти из них (считаю вместе с Голубковым) названы улицы «города разбитой фотографии». За сведения спасибо Марине Кабановой.
А вечер сгущал краски. Солнце красиво, я бы сказал, по-театральному, пряталось за крышами домов, приговаривая игриво: «Найди меня!»
И на улицы по одиночке, парочками, кампаниями выходили «искатели солнца», всё молодого возраста. Девушки одеты по нарядному, парни – по крутому. Любовь-любовь. Мне вспомнились, при этом, вечера в Гадяче Полтавской области («Привет, Николай Васильевич!»). Такие же сотни «искателей солнца»: тоже девушки одеты по нарядному, тоже парни одеты по крутому, как грибы после осеннего дождя или ягоды смородины на ветках куста заполняли площади, улицы, переулки. И кто после этого скажет, что мы не один народ? Вместе с Гадячем вспоминаются футболки с рисованным ликом Тараса Шевченко и надписью, его цитатой: «Кохайтесь чернобривые, но не з москалями», что на Сорочинской ярмарке («Опять привет, Николай Васильевич!») в большом количестве видел в продаже. Я в то время даже себе и представить не мог, к чему всё это начиналось и чем всё должно было закончится.
Ночевали мы в гостинице «Третьяков», обстановкой, убранством напоминающей дореволюционные времена, точнее то, как о них писал, к примеру, Тургенев. Стилитика «номера для помещиков»: девушки-пышки томно глядят со стен, с полотен картин, сжимая в руках яблоки или груши из ваз, что стоят перед ними, приготовленные для натюрморта, обои под дорогой рисунок, соответствующие витые люстры, мраморные лестницы. Оформители постарались на славу! Молодцы! Пытался же я заснуть под музыкальное сопровождение в 140 децибел. Толи студенты, толи туристы, толи студенты-туристы «бузили» ночь на пролёт в лесопарковом массиве близ озера, что на карте обозначено, как Комсомольское. «Это юность моя, это юность моя».
Юность, сука, ты не понимаешь, чего творишь?! Когда же с годами мозги потихонечку выпрямляются (если происходит выпрямление, а бывает и отсутствие выпрямления до глубоких седин), единственное, что тебе хочется сказать на такие ночные бдения:
– Заткнитесь вы уже!
Но, как ты сам прекрасно понимаешь, подобные фразы помогают мало. «Против лома нет приёма, если нет другого лома».
Троих, двух девушек и молодого человека, из «бузивших всю ночь» мы встретили на утро в пекарне «Судисласть», когда закупались едой для перекусов на последующую дорогу. «Бузивших» я узнал по специфической одежде и характерной «помятости» на лице. Они были «помятые», я же представлял собой человека с «квадратной» головой, от недосыпа, родители, в свою очередь, сказали, что ничего не слышали. Не удивительно – их окна выходили на противоположную сторону, им повезло.
И вот ещё одна вещь, поразившая меня в Судиславле. Проезжая по Костромской улице, с намерением покинуть город я наблюдал неожиданную и неестественную для, к примеру, столичной жизни картину. С одной из прилегающих улиц высунул нос с намерением пройти нам на перерез полицейский УАЗ. Водитель заметил Степвэй и остановился как вкопанный, хотя и скорость двигающегося автотранспорта, и расстояние между участниками дорожного движения позволяли несколько раз проскочить перекрёсток, да и вырулить куда тебе требуется. Во всяком случае полиция в Москве давно бы пересечение преодолела, глазом не моргнув, да и чего греха таить, я сам бы несколько раз уже был бы таков. Увиденное, естественно, меня смутило:
– Что такое?
– Поезжай! Он тебя пропускает! – подсказал папа.
И я проехал. Мгновение. Лишь короткое мгновение, но оно прочно засело в памяти. Знал ли водитель УАЗа, что этим, казалось, незначительным поступком он оставит у кого-то отметку о себе и своём городе? Добрую отметку. Сомневаюсь, что знал. Передайте ему пожалуйста, когда встретите.
– Вот справа за лесом Макарьев начинается, и Унжа течёт, – вталкивает меня в объятья действительности папин голос.
Я задумался на всё утро. Время вернуться.
12. Дедушка умер
Со смертью я столкнулся рано. Не с самой смертью, как с физическим явлением, а с тем антуражем, который создаётся вокруг неё, нагнетается. Особенно этот антураж хорошо виден, когда человек молодой умирает. Я даже помню, как его звали – Олег Попов.
День пасмурный был. Под ногами голодно чавкала грязная жижа. Я с бабушкой Леной и моей старшей сестрой (тоже Леной) шёл по площадке двора. Только из дома вышли. У нас в посёлке дома прямоугольником стоят, правда не четырёхвершинным, а шестивершинным, шесть домов, дом против дома. И вот мы шли по двору центральной пары домов. И как будто в воздухе стала материализовываться эта мысль – «Олег Попов разбился». Донесли её работяги, что с ночной смены от железнодорожной станции возвращались. Затем бабушки, что на лавочках сидят, судачат, кости всему посёлку перемывая, подхватили:
– Инки Мироновой сын разбился. Как его. Олег, кажется.
– Она уже давно не Миронова, а Попова.
Дорога, шедшая от станции к посёлку, лихо проскакивала перекрёсток – пересечение с Варшавским шоссе. Слева плотным рядом обозначали своё присутствие палисадники деревенских домов, крыши, стены, наличники резные, в ветвях и листьях утопающие и ненароком зовущие: «На помощь!» Дорожная насыпь и само асфальтовое полотно глядели на них свысока, надменно – виной тому были старания строителей, ответственно подошедших к работе и выполнивших дорожную насыпь основательно, по всем действующим нормам и правилам. Она получилась высокой, выше других дорожных элементов, окружающих построек, предметов. Отсюда надменность. Справа лежал провал тротуара, который ограничивался строем лип и железной решёткой забора, огораживающей пространство футбольного стадиона. Автомобиль, которым Олег Попов управлял, Лада-«девятка» валялся бесформенной грудой железа, перегораживая тротуар, войдя передней частью в изгородь, сильно поранив ствол дерева, выломав секцию решётки. Видимо водитель потерял управление, превысив скорость.
«Олег Попов разбился», – несколько дней висело дождливой тучей над посёлком.
«Инкин сын разбился», – не утихали разговоры на лавочках.
Погода, отравленная смертью, кашляла и чихала дождём. Мы вновь вышли под хмурое небо улицы. Состав был всё тот же. Шёл третий день считая от трагедии. Асфальт прикрыли еловым похоронными лапами. Молодые люди – парни, девушки, в большей массе своей в кожаных куртках (запомнилось почему-то) заняли один из столов с лавочками, что стояли с ним в комплекте. У нас столы установлены были на против каждого из подъездов домов. Этот был правый во дворе серединной пары. Девушки стелили скатерть, расставляли закуску на керамике. Ребята гремели стаканами и рюмками, доставали бутыли с прозрачной жидкостью.
«Вот вам поминки по Тарасу», – пришло почему-то через года, хотя поминки проходили не так как у Гоголя, классически.
Тем днём с утра Олега похоронили. А после поднимались горькие тосты, молчаливые отсутствием стеклянного перезвона. Я сам видел. Я сам слышал.
Следующая смерть ударила значительно, пришибла увесисто. Следующая смерть плотно была связана с моей семьёй.
«А сколько в нашей стране живёт народов?»
«Слышал про красного графа Толстого?»
Правильные ответа на эти вопросы теперь я знаю, но их никто больше не спросит. Некому спрашивать – дедушка умер. Никто не прочтёт стихотворения Есенина и Евтушенко. Некому прочесть – дедушка умер.
Мы тогда под Калинин уже переехали в посёлок геологической партии.
Посёлок ютился в стороне от шоссе, соединяющего Москву с Калининым, чётко против поселения, имеющего название Эммаус. Я думал, что название поселения переводится как «Мышь». Почему? Объяснить легко: «Э» – в сознании моём представлялось неопределённым артиклем «A» из английского языка, а «маус» образовано было от того же английского «mause», что и означало «мышь».
От шоссе, стремительной лентой вползающей в Калинин, нужно было шагнуть на два, три километра западней по грунтовой, превращающейся в вязкую жижу в распутицу, дороге, чтобы очутиться у железных ворот, открывающих, либо закрывающих (для кого как) ход на территорию посёлка. В распутицу дорогу без проблем преодолевали лишь «ЗИЛки» в большом количестве наводняющие внутреннюю заасфальтированную площадь посёлка. «ЗИЛки» ставили на стоянку в ряд по краю площади так, чтобы их «морды» воображаемым «носом» чуть-чуть не тыкались в окна крайних домов, где жили семьи геологов. Дома, представляли собой одноэтажные деревянные срубы, также, как и артикль с «мышью» на английский манер разделённые на две половины. Каждой семье по своей половине. Здесь же, утыкаясь стеной в край площади, стояло двухэтажное здание конторы посёлка. Основная «бумажная» работа происходила там. Туда-то и пришла телеграмма: «Андрей, папа умер. Мама»
Стоял холодный октябрь. Папа, отпросившись на несколько дней с работы, отвёз нас в Москву. Сам же сел на щёлковском автовокзале в автобус, что следовал до Макарьева, и уехал в Костромскую область.
Я пустоту только помню внутри, шептавшую мне: «Дедушка умер». Помню ещё, как мы переходили по пешеходному переходу Варшавское шоссе, возвращаясь обратно в Милицейский посёлок. Безразлично светил нам зелёный глаз светофора, мне, маме и Лене, а в голове звучало: «Дедушка умер».
Пустота нарастала с обрывками фраз, подслушанных из разговоров родителей, после того, как папа из Мантурово вернулся. «Весь двор на похоронах люди заполнили…», «Друзья Юрия Александровича из Ленинграда, из Ташкента приехали…», «Директор завода был…», «Я с мамой у гроба в кузове ЗИЛа ехал…»
Папа от Макарьева на местном автобусе до Мантурово добирался. Сейчас мы проходим эти практически восемьдесят километров пути на автомобиле. Смотрю на дорогу и вздыхаю: «Дедушка умер».
Смерть никогда не приходит вовремя. Каждый проживёт столько сколько ему отмерено, однако сердцу не объяснишь, сердцу не прикажешь биться дальше. Он мог бы жить ещё и теперь, годы позволяли, но старуха в чёрном балахоне встретила его октябрьским вечером 1990 на пути с завода домой. Дедушку обнаружили на обочине.
13. «Пластмассовый мир победил»
Я не удивлю вас. Все мы видели, как на телевизионном экране разыгрывалась история Одетты и Зигфрида. Как злые чары волшебства были разрушены и любовь торжествовала, но за августовской ширмой балета творилось непотребство, финал которого любовью и счастливой концовкой не завершился.
Реальная история была разрушительной, чудовищной. Она ударила не только по мне и моей семье. Она ударила по всем. По жителям Союза, по всему миру. Да-да, именно по всему миру – слова без преувеличения. Одетта и Зигфрид погибли, никто не выжил. Утро после августовского путча продолжилось тяжёлым похмельем парада суверенитетов, а завершилось декабрьским крушением самолёта, что, перефразируя известные слова Юрия Бондарева, Горбачёв поднял в воздух, не ведая, как и где состоится посадка.
Посадка состоялась. Огонь, взрыв, осколки, элементы крыльев, фюзеляжа рассеяны на огромной площади. Экстренные службы спешно находят чёрные ящики (бортовые самописцы) и увозят их в неизвестном направлении. В моей памяти осталось мало образов – всё успели растащить. Кроме «Лебединого озера» я помню танк с Ельциным на броне, лихо жестикулирующим под слова сиплым голосом, зачитанные с бумажки:
– Все решения этого комитета объявляются незаконными…
Да похороны «героев», что под броню с пьяных глаз норовили упасть… и падали.
Спустя без малого год после смерти дедушки бабушка Маша поехала в Клайпеду. В гарнизоне в Литовской ССР служил муж её дочери – моей тёти. Добираться от Мантурово нужно было на поездах с пересадкой в Москве. Уже в «Ветлуге» вагоны словно кастрюли на плите до краёв наполняло железнодорожное радио.
– Мне казалось, книгу какую-то художественную читают, – рассказывала потом бабушка.
Я внимательно слушал её и понимал, что с данного ракурса историю августовского путча ещё не разглядывал.
«…За окном летели леса, перелески, поля, реки, с притаившимися средь них городами, сёлами, деревнями. Вагоны раскачивало из стороны в сторону на участках разгона, а голос из репродуктора словно топором рубил совершенно не художественный сюжет событий, которые кроме как с художественной точки зрения восприниматься не могли. Было ощущение нереальности. Щепки летели.
– Это кто написал? Распутин?
– Нет, у Распутина иная тематика.
– Астафьев?
– Нет, у Астафьева иной язык.
– Тогда кто?»
«Ельцин написал! Ельцин!» – твердило нутро, когда я слушал рассказ бабушки.


