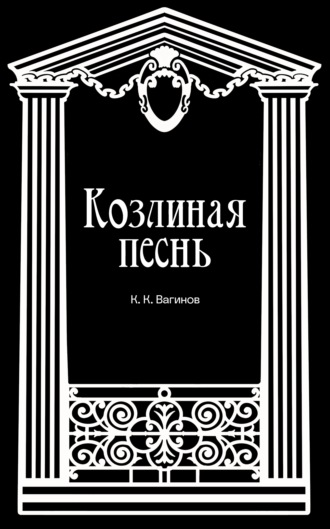
Полная версия
Козлиная песнь
Помолчали.
– Луна. Звезды, – сладко зевнул Троицын. – Давай проходим сегодняшнюю ночь.
– Проходим, – согласился неизвестный поэт.
На стоптанных каблуках, в лохмотьях, поэты шли то к Покровской площади, то на Пески, то к саду Трудящихся.
– Ты любишь и чувствуешь Петербург, – засмотрелся Троицын у Казанского собора на звезды.
– Неудивительно, – рассматривая свои сапоги, заметил неизвестный поэт, – я в нем присутствую в лице четырех поколений.
– Четыре поколения вполне достаточно, чтобы почувствовать город, – доставая платок, подтвердил Троицын. – А я с Ладоги, – продолжал он.
– Пиши о Ладоге. У тебя детские впечатления там, у меня – здесь. Ты любил в детстве поля с васильками, болота, леса, старинную деревянную церковь, я – Летний сад с песочком, с клумбочками, со статуями, здание. Ты любил чаёк с блюдечка попивать.
Помолчали.
Неизвестный поэт оглянулся.
– Я парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки. Откуда же у меня может появиться любовь к полям, к селам? Неоткуда ей у меня появиться.
Они сели на камни у забора Юсуповского сада.
– Прочти стихи, – предложил Троицын неизвестному поэту.
Неизвестный поэт положил палку.
– Черт знает что, – растрогался Троицын, – настоящие петербургские стихи. Посмотри, видишь луну сквозь развалины?
Он встал на цыпочки на груду щебня. Неизвестный поэт закурил.
– Не смотри на луну, – сказал он, – это тревожащее явление. – И, поднявшись перед Троицыным, хотел заслонить ее.
В год шпенглерианства Миша Котиков приехал, поразился и влюбился в силу, гордость, мироощущение недавно утонувшего петербургского художника и поэта Заэвфратского, высокого седого старика, путешествовавшего с двумя камердинерами. Поэт Заэвфратский с тридцатипятилетнего возраста создавал свою биографию. Для этого он взбирался на Арарат, на Эльбрус, на Гималаи – в сопровождении роскошной челяди. Его палатку видели оазисы всех пустынь. Его нога ступала во все причудливые дворцы, он беседовал со всеми цветными властителями.
Миша Котиков ни разу не видал Заэвфратского, но был поражен. Миша был румяный, рыжий, большеголовый мальчик, опрятный, с маленьким ротиком. «Удивительно!» – часто шептал он, склоняясь над книжками и рисунками Заэвфратского.
Плакала жена Александра Петровича Заэвфратского, когда Заэвфратского не стало, и ручки ломала.
Воспользовались случаем друзья Заэвфратского, ходили к ней и утешали.
И Свечин утешал.
А на следующий день ругался:
– Дура, птица, лежит как колода.
И ходил по всему небольшому деревянному дому и разглашал:
– Вот он с ней, а она вздыхает – ах, Александр Петрович!
Через год Миша Котиков, как поклонник Заэвфратского, познакомился с Екатериной Ивановной.
Вечерком вина принес и закусочек; долго, склонив головку, говорила Екатерина Ивановна об Александре Петровиче. Какие платья он любил, чтоб она носила, какие руки были у Александра Петровича, какие прекрасные седые волосы, какой он был огромный, как он ходил по комнате и как она, встав на цыпочки, целовала его.
Сидел Миша Котиков, раскрыв свой маленький пунцовый ротик, смотрел своими голубыми ясными глазками, начал гладить и пожимать ручки Екатерины Ивановны, целовать Екатерину Ивановну в лоб. Всё спрашивал:
– А какой нос был у Александра Петровича? А какой длины руки? А носил ли Александр Петрович крахмальные воротнички или предпочитал мягкие? А барабанил ли пальцами Александр Петрович по стеклу?
На все вопросы ответила Екатерина Ивановна и заплакала. Взяла мужской носовой платок с инициалами, поднесла к глазам.
– Не платок ли это Александра Петровича? – спросил Миша Котиков.
Долго она сидела молча и утирала слезы платком Заэвфратского.
Потом передала платок Мише Котикову:
– Храните его на память об Александре Петровиче.
Снова заплакала.
Миша Котиков аккуратно сложил платок и спрятал поспешно.
– А что говорил об искусстве Александр Петрович? – ощупывая платок в кармане, спросил Миша Котиков. – Чем была поэзия для Александра Петровича?
– Он со мной о поэзии не говорил, – раскрыв глаза, посмотрела в зеркало Екатерина Ивановна.
Подскочила к зеркалу.
– Посмотрите, не правда ли, я грациозная? – она стала разводить руками, склонять голову. – Александр Петрович находил, что я грациозная.
– А когда начал писать стихи Александр Петрович, в каком возрасте? – закуривая папироску, задал вопрос Миша Котиков.
– Не правда ли, я похожа на девочку, – села в кресло Екатерина Ивановна. – Александр Петрович говорил, что я похожа на девочку.
– Екатерина Ивановна, а какой столик мы накроем? – рассерженно спросил, вставая с кресла, Миша Котиков.
– Вот этот, – показала на круглый столик Екатерина Ивановна, – но у меня ничего нет.
– Я принес Бордо и… – с гордостью сказал Миша Котиков, – закуски и фрукты.
– Ах, какой вы хороший! – засмеялась Екатерина Ивановна, – я люблю вино и фрукты!
– Меня совсем забросили друзья Александра Петровича, – сказала она, вздыхая, в то время как Миша Котиков, став на цыпочки, доставал рюмки из шкафа.
– Они обо мне совсем не заботятся, знают, что я безвольная, не умею жить, совсем не обращают на меня внимания. Не заходят, не говорят об Александре Петровиче. Не ухаживают за мной. Будемте друзьями, будемте говорить об Александре Петровиче, – добавила она.
Выпив и закусив, Миша Котиков стал рассматривать вещи в комнате.
– Не правда ли, это столик, за которым писал Александр Петрович? – указал он на небольшой круглый стол. – Отчего пыль вы не вытираете? – добавил он.
– Не умею я пыль вытирать, – ответила Екатерина Ивановна, – при Александре Петровиче я пыль не вытирала.
На следующий день проснулся Миша Котиков в постели Александра Петровича.
Рядом с ним, раскрыв ротик, высунув ручку, спала Екатерина Ивановна.
«Жаль, что она так глупа, – подумал Миша Котиков. – Никаких ценных сведений об Александре Петровиче сообщить мне не может. Ну, да ладно, от друзей Александра Петровича получу ценные сведения. А от нее узнаю, как писал Александр Петрович».
– Екатерина Ивановна, а Екатерина Ивановна, как писал Александр Петрович?
Проснулась Екатерина Ивановна, раскинула ручки, толкнула коленком Мишу Котикова, перевернулась на другой бок и заснула.
Две недели ходил к Екатерине Ивановне Миша Котиков. Разные интимные подробности об Александре Петровиче собирал; иногда водил Екатерину Ивановну в кинематограф, иногда в театр, иногда просто по улицам гуляли.
Все узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле Александра Петровича, сколько мозолей, узнал, что в 191… году у Александра Петровича на спине чирей выскочил, что любил Александр Петрович кокосовые орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Ивановной тьма любовниц, но что он любил ее очень.
А когда все узнал и все записал, то решил, что любовницы Александра Петровича, должно быть, умнее жены и ему больше сведений о душе Александра Петровича смогут дать. Бросил Екатерину Ивановну. Был он мальчик чистенький, одевался аккуратно в высшей степени, никогда у него ни под одним ноготочком грязь не застревала.
Узнал, что студентка X была последней любовницей Александра Петровича, встретился с ней в одном знакомом доме, где литературные собрания устраивались.
Дом был удивительный. Две барышни – и обе стихи писали. Одна – с туманностью, с меланхолией, другая – со страстностью, с натуральностью. Они обе решили поделить мир на части: одна возьмет грусть мира, другая – его восторги.
Были еще всякие юноши и девушки. Поэтический кружок составился. Приходили и прежней эпохи поэты; тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кружок, читали, а некоторые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались. Здесь-то и встретился Миша Котиков со студенткой X.
Он тоже здесь стихи читал, сидя на подушке от дивана, ножки вытянув, глазки закрыв. Рядом с ним как раз сидела студентка X, веселая, с длинными ножками.
– А что, Евгения Александровна, пойдемте после вечера по городу погулять, к томоновской Бирже.
– Только если соберется компания, – шепотом ответила Евгения Александровна.
В два часа ночи компания составилась.
Компания прошла мимо вздыбленных коней над Фонтанкой. Всю дорогу ухаживал за Женей Миша Котиков. Говорил о том, что она удивительная и необыкновенная девушка. Когда подошли к Бирже Томона, удалились вместе Миша и Женя, склонив нежно головы.
Раскраснелся Миша Котиков, порозовела Женичка, со ступенек встали.
– Скажите, Женичка, – спросил Миша Котиков, – очень вас любил Александр Петрович?
– Обещал два месяца любить, но потом избегал встречаться.
– А когда это было?
– 11 февраля.
– Не говорил ли с вами Александр Петрович о поэзии?
– Говорил, – ответила, поправляя юбку, Женя, – говорил, что каждая девушка писать стихи должна. Во Франции все пишут.
– А что говорил Александр Петрович об ассонансах?
– Ассонансов он не любил, говорил, что они только для песен годятся.
– Женичка, Женичка, еще поправьте юбочку, а то заметить могут.
Молодые люди прощались. Город постепенно восстанавливался. Появлялись окрашенные здания. Поэт Троицын прошел, провожая свою аптекаршу. А знакомство у него с аптекаршей было необычайное. Раз как-то он, проходя мимо аптеки, увидел за прилавком хорошенькую головку, зашел, попросил средства от головной боли; хорошенькая головка знала, что это Троицын. Еще бы не знать! Троицын везде стихи читал. Он страшно любил стихи читать.
Дала она ему средство от головной боли, и заговорил Троицын о звездах. Просто неземной человек был Троицын, только о звездах и мог говорить.
– Посмотрите, – говорил он, показывая в окно, – какая Медведица.
– А какая огромная луна, – ответила девушка.
– А какой чистый воздух ночной, – сказал Троицын.
– А знаете мое стихотворение «Дама с камелиями»? – спросил Троицын.
– Не знаю.
– Хотите, я почитаю?
– Почитайте, – ответила барышня.
Троицын почитал.
«Какие поэтические стихи!» – замечталась девушка.
Троицын облокотился совсем на прилавок. Барышня посмотрела на часы.
– Сейчас моя подруга придет, я ее сегодня заменяю.
– Я вас провожу, – сказал Троицын.
– Хорошо, – раскрыла глаза барышня.
Через полчаса они шли мимо Петровского парка.
– Давайте в снежки играть, – предложил Троицын.
То она убегала, то он убегал. Прохожих не было. Сели отдохнуть, белые от снежков.
Посмотрел Троицын вокруг – никого. Посмотрела она – никого. Пошли подальше от дороги.
На следующий день Троицын бегал по городу и всем рассказывал. Но в течение двух недель ходил провожать аптекаршу, появлялся везде с аптекаршей, отводил друзей в сторону и шептал на ухо:
– Надоела мне она. Это все перпендикулярная любовь. Я, как Дон Жуан, настоящей любви ищу.
Посмотрели вслед удаляющейся парочке молодые люди, посмеялись над Троицыным.
Попрощался с Женей Миша Котиков. Условились завтра встретиться. Подошел Миша Котиков к неизвестному поэту.
– Я биографией Александра Петровича занят. Не можете ли вы дать нужные сведения?
– Гм… – лениво ответил неизвестный поэт. – Обратитесь к Троицыну. Он все знает.
Миша Котиков побежал догонять Троицына.
На следующий день Миша Котиков сидел у Троицына. Комната была полутемная. Пахло малиновым вареньем. На окнах висели кисейные занавески. На подоконнике зеленела девичья краса. На стенах были развешаны портреты французских поэтов, приколоты гравюры, изображавшие Манон Леско, Офелию, блудного сына.
– Вот перо Александра Петровича, – протянул вставочку Троицын Мише Котикову, – вот чернильница, вот носовой платок Александра Петровича.
– У меня есть носовой платок Александра Петровича, – ответил с гордостью Миша Котиков.
– Как, вы тоже собираете поэтические предметы?
– Это вещи для биографии, – ответил Миша Котиков. – Важно установить, в каком году какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас батистовый, а у меня полотняный. Вещи связаны с человеком. Полотняный платок показывает одну настроенность души, батистовый – другую.
– У меня платок тринадцатого года.
– Вот видите, – заметил Миша Котиков, – а у меня шестнадцатого! Значит, Александр Петрович пережил какую-то внутреннюю драму или ухудшение экономического положения. По платку мы можем восстановить и душу и экономическое состояние владельца.
– А я вообще собираю поэтические предметы, – доставая шкатулку, сказал Троицын. – Вот шнурок от ботинок известной поэтессы (он назвал поэтессу по имени). – Вот галстук поэта Лебединского, вот автограф Линского, Петрова, вот – Александра Петровича.
Миша Котиков взял автограф Александра Петровича, стал рассматривать.
– А где бы мне добыть автограф Александра Петровича?
– У Натальи Левантовской, – ответил Троицын.
«А…» – подумал Миша Котиков.
Глава XI
Остров
Еще весной переехал Тептелкин в Петергоф, снял необыкновенное здание.
Задумался у входа. Здесь он будет принимать друзей, будет гулять по парку с друзьями, как древние философы, и, прохаживаясь, объяснять и разъяснять, говорить о высоких предметах. Здесь посетит и мечта жизни его, необыкновенное и светлое существо, – Мария Петровна Далматова. Сюда приедет и философ его, старый наставник и необыкновенный поэт, духовный потомок западных великих поэтов, прочтет им всем новые стихи свои на лоне природы. И другие знакомые приедут. Задумался Тептелкин.
Утром он встал, распахнул окно и запел как птичка. Внизу чирикали, взлетали воробьи, шла молочница.
«Теплынь-то какая, – подумал он и простер руки к просвечивающему сквозь ветви деревьев солнцу. – Тихо тут, совсем тихо, я буду работать вдали от города; здесь я могу сосредоточиться, не разбрасываться».
Он облокотился на стол.
– Ха-ха, – смеялись по вечерам обитатели соседних дач, утихомирившиеся советские чиновники, со своими женами и детворой, идя по дорожкам от дач и погружаясь в зелень парка.
– Ха-ха! Приехал философ; тоже, выбрал помещение!
– Ха-ха, дурачок, по утрам цветы собирает.
Тептелкин со дня на день ждал приезда своих друзей. Собирал цветы по утрам, чтобы встретить друзей с цветами.
Вот идет он с охапкой черемухи – Мария Петровна любит черемуху. Вот завернул он за угол с букетом сирени. Сирень любит Екатерина Ивановна.
Но отчего нигде не видно Натальи Ардалионовны? Куда она скрылась?
– Мы последний остров Ренессанса, – говорил Тептелкин собравшимся, – в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока.
Башня была самая реальная, уцелевшая от купеческой дачи. Низ дачи был растащен обитателями соседних домов на топку кухонь, но верх уцелел, и в комнате было уютно. Стоял стол, накрытый зеленой скатертью. Вокруг стола сидело общество: дама в шляпе со страусовыми перьями и с аметистовым кулоном, собачка рядом с ней на стуле; старичок, рассматривающий ногти и делающий тут же маникюр; юноша в кителе с старозаветной студенческой фуражкой на коленях; философ Андрей Иванович Андриевский; три вечных девы и четыре вечных юноши. В уголке Екатерина Ивановна завивала пальцем волосы.
– Боже мой, как нас мало, – Тептелкин качнул своими седеющими волосами. – Попросим уважаемого Андрея Ивановича сыграть, – повернулся он к высокому философу, совершенно седому, с длинными пушистыми усами.
Философ встал, подошел к футляру, вынул скрипку.
Тептелкин растворил окно, отошел. Философ сел на подоконник, засунул угол платка за крахмаленный воротничок, попробовал струны и заиграл.
Внизу цвели запоздавшие ветви сирени. В комнату проникал фиолетовый свет. Там, вдали, мерцало море, освещенное развенчанной, но сохранившей очарование для присутствующих луной. Перед морем фонтаны стремились достичь высоты луны разноцветными струями, наверху кончавшимися трепещущими белыми птичками.
Философ играл старинную мелодию.
Внизу, по аллее фонтанов, проходил Костя Ротиков с местным комсомольцем. У комсомольца были глаза херувима. Комсомолец играл на балалайке.
Костя Ротиков был упоен любовью и ночью.
Философ играл. Он видел Марбург, великого Когена и свою поездку по столицам западноевропейского мира; вспомнил, как он год прожил на площади Жанны д’Арк; вспомнил, как в Риме… Скрипка пела все унывней, все унывней.
Философ с густой, седой шевелюрой, с моложавым лицом, с пушистыми усами и бородой лопатой видел себя великолепно одетым, в цилиндре, с тросточкой, гуляющим с молодой женой.
– Боже мой, как она любила меня, – и ему захотелось, чтоб умершая жена его стала вновь молодой.
– Не могу, – сказал он, – не могу больше играть, – опустил скрипку и отвернулся в фиолетовую ночь.
Вся компания сошла вниз в парк.
Философ некоторое время шел молча.
– По-моему, – прервал он молчание, – должен был бы появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства.
– Это и есть Филострат, – рассматривая только что сорванный цветок, остановился неизвестный поэт.
– Пусть будет по-вашему, назовем имеющего явиться незнакомца Филостратом.
– Нас очернят, несомненно, – продолжал неизвестный поэт, – но Филострат должен нас изобразить светлыми, а не какими-то чертями.
– Да уж, это как пить дать, – заметил кто-то. – Победители всегда чернят побежденных и превращают – будь то боги, будь то люди – в чертей. Так было во все времена, так будет и с нами. Превратят нас в чертей, превратят как пить дать.
– И уже превращают, – заметил кто-то.
– Неужели мы скоро друг от друга отскочим? – ужасаясь, прошептал Тептелкин, моргая глазами, – неужели друг в друге чертей видеть будем?
Шли к Бабьегонским высотам.
Компания расстелила плед, каждый скатал валиком свое пальто.
– Какой диван! – воскликнул Тептелкин.
Впереди, освещенный магометанским серпом, темной массой возносился Бельведер; направо – лежал Петергоф, налево – финская деревня.
Когда все расположились, неизвестный поэт начал:
Стонали, точно жены, струны.Ты в черных нас не обращай…Тептелкин, прислонившись к дереву, плакал, и всем в эту ночь казалось, что они страшно молодые и страшно прекрасные, что все они страшно хорошие люди.
И поднялись – шерочка с машерочкой и затанцевали на лугу, покрытом цветами, и появилась скрипка в руках философа и так чисто и сладко запела. И все воочию увидели Филострата: тонкий юноша с чудными глазами, оттененными крылами ресниц, в ниспадающих одеждах, в лавровом венке – пел, а за ним шумели оливковые рощи. И, качаясь, как призрак, Рим вставал.
– Я предполагаю написать поэму, – говорил неизвестный поэт (когда видение рассеялось), – в городе свирепствует метафизическая чума; синьоры избирают греческие имена и уходят в замок. Там они проводят время в изучении наук, в музыке, в созидании поэтических, живописных и скульптурных произведений. Но они знают, что они осуждены, что готовится последний штурм замка. Синьоры знают, что им не победить; они спускаются в подземелье, складывают в нем свои лучезарные изображения для будущих поколений и выходят на верную гибель, на осмеяние, на бесславную смерть, ибо иной смерти для них сейчас не существует.
– Ах, не правда ли, я теперь совсем глупой стала, – начала приставать к Тептелкину Екатерина Ивановна, – совсем глупой стала без Александра Петровича и совсем несчастной.
– Послушайте, – отвел Тептелкин в сторону Екатерину Ивановну, – вы совсем не глупая, просто жизнь так складывается.
«Развратил ее совершенно Заэвфратский, развратил», – подумал он.
– А где Михаил Петрович Котиков, – прошептала Екатерина Ивановна, – отчего он не заходит, не говорит со мной об Александре Петровиче?
Помолчал Тептелкин:
– Не знаю.
Екатерина Ивановна, приподняв ножку, начала осматривать свои туфельки.
– А ведь туфли-то у меня совсем истрепались, – широко раскрыв глаза, сказала она. – И дома нет одеяла, пальто прикрываться приходится.
И задумалась.
– Нет ли у вас конфеток?
– Нет, – грустно ответил Тептелкин.
– А ведь Александр Петрович великий поэт, не правда ли? Нет теперь больше таких поэтов, – выпрямилась она с гордостью. – Он меня больше всего на свете любил. – И улыбнулась.
К Тептелкину подошла Муся в старомодной соломенной шляпке с голубыми ленточками и слегка блестящими ногтями дотронулась до его руки.
– Скажите, – сказала она, – что значит:
Есть в статуях вина очарованье,Высокой осени пьянящие плоды…– Ах, ах, – покачал головой Тептелкин, – в этих строках скрыто целое мировоззрение, целое море снующих, то поднимающихся как волны, то исчезающих смыслов!
– Как хорошо мне с вами, – сказала Муся. – Мне он говорил, – она показала глазами на неизвестного поэта, разговаривающего с вечным юношей, – что вы последние, уцелевшие листы высокой осени. Я это не совсем поняла, хотя кончила университет; но ведь теперь в университетах не этому совсем учат.
– Этому не учат, это чувствуют, – заметил Тептелкин.
– Сядемте на ту ступеньку, – указала Муся подбородком.
Они поднялись повыше. Сели на ступеньку между кариатид портика Бельведера.
– Как поют соловьи! – сказала Муся. – Отчего девушек соловьи всегда волнуют?
– Не только девушек, – ответил Тептелкин, – меня соловьи тоже всегда волнуют.
Он посмотрел Мусе в глаза.
– А я женщин боюсь, – задумчиво уронил он. – Это страшная стихия.
– Чем же страшная? – улыбнулась Муся.
– А вдруг закрутит, закрутит и бросит. С моими друзьями это случалось, а как бросит, никак не умолить жить вместе. А как мои друзья на своих жен молились и портреты в бумажниках носили! А они всегда, всегда бросают.
Тептелкин обиделся за друзей. Муся достала гребенку и стала расчесывать Тептелкину волосы.
Внизу молодые люди пели:
Gaudeamus igitur…Тептелкин вспомнил окончание университета, затем погрузился в свое детство и в нем встретился с Еленой Ставрогиной. Ему показалось, что есть нечто от Елены Ставрогиной в Марии Петровне Далматовой, что она как бы искаженный образ Елены Ставрогиной, искаженный – но все же дорогой. Он поцеловал у нее руку.
– Боже мой, – сказал он, – если б вы знали…
– Что, что? – спросила Муся.
– Ничего, – тихо ответил Тептелкин.
Внизу пели:
Есть на Волге утес…Утром в поезде ехали обратно в Ленинград Костя Ротиков и неизвестный поэт. Неизвестный поэт грустил невыносимо. Ведь его ждет полное забвение. Костя Ротиков развлекал его как мог и говорил о барокко.
– Не правда ли, – говорил он, – вы стремитесь не к совершенству и законченности, а к движущемуся и становящемуся, не к ограниченному и осязаемому, а к бесконечному и колоссальному.
В вагоне никого не было, они сидели вдвоем. Костя Ротиков встал и стал читать сонет Гонгоры.
Неизвестный поэт с нежностью смотрел на Костю Ротикова, насмешливого и остроумного, слегка легкомысленного, читающего только иностранные книги и несколько свысока любующегося творениями рук человеческих.
– Еще поборемся, – сказал он, выпрямляясь.
– Что с вами? – спросил Костя Ротиков.
– Ничего, – улыбнулся неизвестный поэт, – я обдумываю новую барочную поэму.
За окнами неслись поля с высокой травой. Появившийся Костя Ротиков уже читал сонет Камоэнса и находил огромное сходство в настроенности с пушкинским стихотворением:
Для берегов отчизны дальной…В конце поезда, в вагоне, одна, сидела Екатерина Ивановна и обрывала ромашку: любит – не любит, любит – не любит. Но кто ее любит или не любит, – не знала. Но чувствовала, что ее должны любить и о ней заботиться.
А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми усами и думал:
«Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана».
Чиво, чиво, – поворачивались колеса.
Чиво, чиво…
Вот и вокзал.
У Кости Ротикова палочка с большим кошачьим глазом.
У Кости Ротикова глаза голубые, почти сапфировые.
У Кости Ротикова пальцы длинные, розовые.
– Куда мы направимся? – весело спросил неизвестный поэт. – Делать нам равно нечего.
– Пойдемте слушать, как изменяется язык отечественных осин, – улыбнулся Костя Ротиков.
Весь день провели вместе Костя Ротиков и неизвестный поэт. Гуляли по Летнему саду, по набережным Фонтанки, Екатерининского канала, Мойки, Невы. Постояли перед Медным Всадником, пожалели, что некогда отцы города счистили зелень – прекрасную черно-зеленую патину. Покурили. Сели на скамейку. Поговорили о том, что город по происхождению большой дворец.
Поговорили о книгах.
Летний вечер. Никаких официальных занятий. Никакой кафедры. Мошкара кружится и вьется. В лодке сидит Тептелкин, гребет. У берега качаются тростники, наверху виден Петергофский дворец, на берегу стоит неизвестный поэт.













