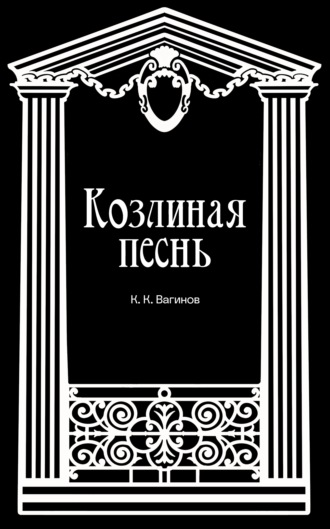
Полная версия
Козлиная песнь

Константин Константинович Вагинов
Козлиная песнь
© Секисов А.А., предисловие, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Вагинов, которого никто не поймал
Константин Вагинов – писатель прежде всего странный. Для кого-то заманчиво-странный, для кого-то раздражающе странный. Писатель-чудак, населяющий свои тексты такими же чудаками. Вагинов ускользает от любых ярлыков и определений, которые на него пытались навешивать и при жизни, и продолжают навешивать по сию пору. Николай Чуковский так рассуждал о прозе Вагинова: «Его романы представляют собой как бы криптограммы, как бы зашифрованные документы, причем ключ от шифра он не дал никому».
В напрасной попытке сказать о Вагинове хоть что-то конкретное коротко перечислим факты его биографии. Константин Константинович родился в богатой семье. Его отец, жандармский ротмистр Константин Вагенгейм, выгодно женился на дочери золотопромышленника, городского головы Енисейска, Любови Баландиной. Они купили большой доходный дом недалеко от Мариинского театра, где, вероятно, жили на широкую ногу, как принято говорить. Будущего писателя отдали в престижную петербургскую гимназию имени Гуревича. Но после революции семья потеряла всё. Самого Вагинова мобилизовали в Красную армию, и он принял участие в военных действиях на Польском фронте. Столь драматичные события не нашли отражения в его будущих текстах – причудливых, сновидческих, ироничных.
Вернувшись с войны, юный Вагинов стал ходить по петроградским(ленинградским) литературным кружкам и салонам, прежде всего поэтическим. Он участвовал в гумилевском «Цехе поэтов», объединении «Островитяне», на определенном этапе примыкал к ОБЭРИУ. Он отметился и в группе «эмоционалистов», которую возглавлял Михаил Кузмин. Первый рассказ Вагинова «Монастырь Господа нашего Аполлона» был опубликован в их литературном альманахе под названием «Абраксас». А еще Вагинов входил в круг филолога, исследователя карнавальной культуры Михаила Бахтина. Но по-настоящему своим он нигде не стал. Современники оставили о Вагинове очень мало воспоминаний.
Что можно сказать о нем с определенностью: Вагинов – писатель прежде всего петербургский. Филолог Владимир Топоров, введший в оборот термин «петербургский текст русской литературы», наградил Вагинова спорным, но характерным титулом: «закрыватель темы Петербурга». Петербург у Вагинова – город-мираж, населенный карикатурными и вместе с тем призрачными фигурами, существующими как будто вне времени и пространства. Гуляя по центральным улицам Петербурга, оглянитесь по сторонам. Вы непременно увидите типичного персонажа Вагинова. Это будет нелепо, но целеустремленно движущийся человек неопределенного возраста с рассеянным взглядом. При этом понятно, что целеустремленность его – особого свойства. Он торопится вовсе не в банк и не в бизнес-центр, а по делам, которые любому рациональному человеку покажутся смехотворными. Например, он спешит на заседание кружка поэтов-метамодернистов. Или на заседания клуба любителей пылесосов. Или собирается прикупить пачку использованных лотерейный билетов, а может, и чей-то молочный зуб.
Его герои – эскаписты, прячущиеся от реальности одновременно в прошлом и будущем, в своих хобби, неизменно причудливых, в высоких башнях культуры, за статуями Летнего сада и Петергофа, в древнеримских стихах. Быть может, поэтому тексты Вагинова созвучны современной эпохе, едва ли не главной чертой которой можно счесть эскапизм.
Почти все его романы в той или иной степени воспроизводят фабулу раннего вагиновского рассказа, уже упомянутого «Монастыря Господа нашего Аполлона», опубликованного в 1922 году. Это достаточно страшный текст, пожалуй, в духе триллеров о приключениях людоеда Ганнибала Лектера. Группа художников-интеллектуалов, которые, конечно же, презирают современность и поклоняются образцам древности, воскрешает из небытия древнегреческого бога Аполлона. И бог Аполлон, вместо того чтобы благоволить художникам, открывает на них охоту, пожирая одного за другим.
То же, по сути, происходит в первом и самом известном романе Вагинова «Козлиная песнь».
«Козлиная песнь»Это самый известный, хотя и, пожалуй, самый сложный для восприятия роман Константина Вагинова. Его тема – тот самый побег от враждебной реальности, своего рода «уход в лес». В сущности, «уход в лес» и «уход в Петербург» – одно и то же. Петербург воплощает собой антиприроду – как и лес, безразличную к человеческому присутствию, существующую вне времени. За античными статуями можно скрыться с тем же успехом, что и в лесной чаще. Что герои «Козлиной песни» и делают: читают стихи Гонгоры и римских философов, влюбляются и гуляют по Летнему саду среди римских скульптур, до последнего пытаясь сдержать оборону перед наступающим новым Средневековьем. Но от реальности не уйти, ведь она тотальна: даже отечественные осины уже говорят на новом варварском языке. Вагинов уверенно ведет своих персонажей «Козлиной песни», как и героев «Монастыря», к смерти – физической или душевной.
Рецепта спасения у Вагинова нет – герои, пытающиеся встроиться в новый мир, и герои, бегущие от него до последнего, кончают одинаково плохо. Впрочем, все это не имеет никакого значения: Петербург вечен, и вечны его герои, обреченные на вечное возвращение.
Один из самых ярких героев «Козлиной песни» – Костя Ротиков. Это очень современный персонаж, коллекционер китча, всевозможной безвкусицы. Он упивается дурным вкусом и с маниакальным упрямством окружает себя уродливыми, нелепыми предметами. Очень характерный для Вагинова герой.
«Труды и дни Свистонова»Здесь следует сказать еще об одной важной черте, присущей писателю Вагинову. В жизни он производил впечатление человека мягкого, доброжелательного и деликатного. Но за этим образом, отчасти верным, скрывался мужчина насмешливый и даже язвительный. Это хорошо видно в вагиновских текстах, прежде всего в той же «Козлиной песни», куда он в окарикатуренном виде перенес многих своих знакомых из числа ленинградской богемы. Узнав себя, прототипы были страшно возмущены.
Этой коллизии посвящен и довольно веселый роман «Труды и дни Свистонова». Главный герой, писатель Свистонов, сближается с людьми только с одной целью: как следует их узнать, чтобы затем перенести в свою прозу. Представив их, разумеется, в невыгодном, издевательском свете. Он тоже своего рода коллекционер – коллекционер человеческих типов.
«Его жизнь состояла не только в подслушивании разговоров, в охоте за людьми, но и в чрезвычайной зараженности ими, в известном духовном соучастии в их жизни. Поэтому, когда умирали его герои, нечто умирало и в Свистонове, когда отрекались они, известную долю отречения переживал и Свистонов. Кроме того, как ни странно на первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину слова».
Свистонов считает или убеждает себя и других, что делает благородное дело – увековечивает, дарует вечную жизнь простым смертным. В действительности же Свистонов – персонаж зловещий. Одну за другой он похищает личности своих знакомых: описанные в его текстах, они теряют себя, медленно исчезают. «Труды и дни» наполнены яркими эпизодическими персонажами: чего стоит «советский Калиостро», с безжалостной иронией изображенный Вагиновым кухонный мистик, основатель некоего тайного ордена Психачев.
«Гарпогониана»«Гарпогониана» – роман неоконченный, но, пожалуй, самый остроумный и легкий для восприятия у Вагинова. В центре сюжета – 35-летний мужчина Локонов, живущий с мамой и коллекционирующий чужие сны, и делец Анфертьев, его дилер, продавец и собиратель снов. И здесь перед нами тот же, центральный для Вагинова, мотив эскапизма, бегства в свой маленький фантастический мир: мир искусства, сновидений или же экзотических хобби. Сам заядлый коллекционер, свой последний роман Вагинов полностью посвятил таким же коллекционерам, собирателям вещей сомнительной ценности или вовсе понятий: снов, ругательств, обрезков ногтей, фантиков от конфет и носков с дырками. В этом занятии сквозит отчаянная попытка сберечь старый мир, рассыпающийся на глазах. Или, быть может, собрать из этих огрызков и обломков свою альтернативную реальность, которую можно будет не покидать, не выходить в реальность внешнюю.
«Вот какое я ругательство подцепил! Да, я в свое удовольствие живу», – радостно восклицает один из героев. Этот мир коллекционирования тотален: его герои и сами становятся объектом чьей-то коллекции. Главный герой Локонов чувствует себя «бабочкой, посаженной на булавку». А свою мать он любит «как засушенный цветок, связанный с детством наших чувств».
Роман «Гарпогониана» – неоконченный. Вагинов дописывал его перед смертью. Умер он в очень юном для прозаика возрасте – всего в 34 года. Характерно, что ускользавший всю жизнь от определений Вагинов продолжил свое «ускользание» и в посмертии. Писатель, умерший не так уж давно, в 30-е годы XX века, к тому же один из самых ярких писателей поколения, оставил о себе очень мало следов на земле. Символично, что даже его могила на Смоленском православном кладбище не сохранилась. От Вагинова почти не осталось вещей. В архивах можно найти крупицы: коллективная фотография, обрывок черновика. Словом, «мир ловил его, но не поймал», по выражению философа Григория Сковороды.
Сейчас Вагинов приходит к читателю странными путями. Это писатель, что называется, «не для всех». Но если эти «не все» – вы, Вагинов запросто станет вашим любимым писателем.
Антон Секисов – литератор, редактор, автор нескольких книг, включая роман «Комната Вагинова», а также путеводителя по петербургским кладбищам «Зоны отдыха» и повестей «Кровь и почва», «Бог тревоги» и т. д.
Козлиная песнь
Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги автором
Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек – и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек – и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку – змеиная голова; всмотришься в старушку – жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент – поэффектнее повеситься, школьник – ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин – бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей – водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.
Предисловие, произнесенное появившимся посредине книги автором
Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик – сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготовляет, просто страсть у него такая. Поведет носиком – трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гво2здики закупает, кружев по случаю достает.
Глава I
Тептелкин
Вгороде ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо – Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои – и тогда видел себя в пустыне.
Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевает в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой – и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.
Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептелкина Марья Петровна Далматова. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.
Но это бывало только иногда. Обычно Тептелкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.
Все казалось Тептелкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.
Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.
В семь часов вечера Тептелкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садились полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептелкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.
Никто не знал, как Тептелкин жаждал возрождения. «Жениться хочу», – часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженая, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.
Она подобно многим согражданам любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.
– Мальчишки, раскрыв рты, – рассказывала она, – глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.
При слове «императорский» нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему – он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении югославского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков – он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.
Тептелкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.
«Никакого дворянского воспитания, – думал он. – Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».
Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чаю, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.
Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня – это культура, – размышлял он, – на вершине культуры – стою я».
– Куда это вы все спешите, барышни? – спросил Тептелкин, улыбаясь. – Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса; потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.
Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.
Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, – всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченой музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным.
«Смотри, – казалось Тептелкину, говорил он, – следи, как Феникс умирает и возрождается».
И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.
Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает и над Тептелкиным смеется, напротив, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания, может быть, такой раздвоенностью сознания и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрезился – Филострат ли Тептелкину или Тептелкин Филострату.
Иногда Тептелкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит – Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает Каллимаха и подымает полные любви очи.
– Средь ужаса и запустения живем мы, – говорит она.
Интермедия
На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.
В прежние времена в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.
Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.
Глава II
Детство и юность неизвестного поэта
1916 г. – На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным – и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньоной.
Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи – просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты» и, склонившись, шептали на ухо непристойность.
В этом кафе молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зало. Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.
1907 г. – Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова – в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует.
1913 г. – Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.
После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, татрадрахмы Птоломеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств – некогда сиявших, народов – некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она наверно будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем.
И всё новые и новые появляются ящички.
Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари.
– Пора, – говорит он, – не то мы опоздаем к обеду.
Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.
Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забегала сказать:
– Кушать подано.
После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе: приложение к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».
В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб.
После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву девы». В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертона, в комнате неизвестного поэта гувернер надевал сапоги, напевая шансонетку, – он шел поразвлечься после трудового дня; на кухне денщик сажал на колени горничную, та – ржала.











