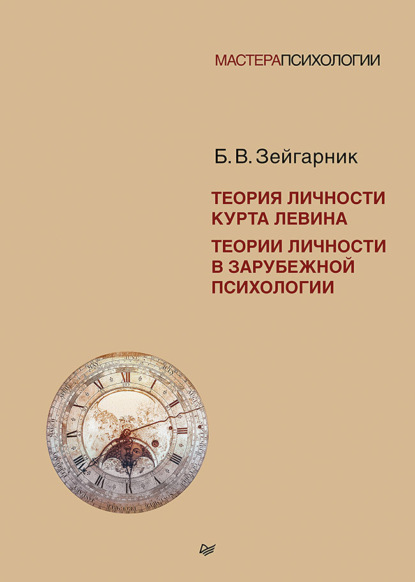Полная версия
Провокативная терапия
Очевидно, что более пассивная, сочувствующая, традиционная роль психотерапевта не для меня. Я был более не способен только слушать пациентов, игнорируя собственные чувства и информацию о пациентах, полученную от их семей, персонала и других пациентов. И я помню, как говорил коллегам в то время, что мне нужны «и белка, и свисток». Я хотел не только проявлять эмпатическое понимание переживаний пациента, но и донести до него то, как его воспринимали другие люди, дать ему обратную связь, из какого бы источника я её ни получил.
Пациенты могут измениться, если захотят, – и как!
В 1963 году я работал в женском отделении для взрослых и проводил последнюю сессию с пациенткой, которую в тот день должны были выписать. Мы разговаривали о том, что её ожидает по возвращении домой. Она с тревогой сказала: «Моя семья будет следить за каждым моим шагом». Я поддержал её: «Нет, не будет». Внезапно меня осенило, и я сказал: «Хотя вы правы, они будут следить за вами как ястребы. Им будет интересно, будете ли вы вести себя так же, как когда вам пришлось лечь в больницу! В течение первой недели они будут ежечасно обращать внимание на ваше поведение во всех ролях: жены, хозяйки, матери, повара, а ваш муж будет проверять вас как сексуального партнёра, пристально следить за выражением вашей радости и гнева. В течение второй недели они будут продолжать наблюдение и, вероятно, отметят про себя, что раз вы держите себя в руках, то, похоже, хорошо себя контролируете, но наблюдение надо продолжать. На третьей неделе они скажут себе: «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели она полностью изменилась?» На четвертой неделе они будут говорить друг другу за вашей спиной: «Она изменилась, но сможет ли она продержаться?» А на пятой неделе будут говорить вам: «Слава богу, ты изменилась!» На шестой неделе они прекратят наблюдать за вами, и с того момента, если вы будете вести себя ровно, к вам будут относиться так же, как ко всем остальным. Дело в том, что вы можете изменить представление о вас, сложившееся в головах ваших близких, если будете постоянно придерживаться прямо противоположных моделей поведения, и на изменение вашей репутации уйдёт не так много времени, как на её формирование. И для того, чтобы вести себя разумно, потребуется, может быть, даже меньше усилий, чем для того, чтобы вести себя как псих».
Мне стало ясно, что формулировки пациентов часто оказываются более точными, чем наши. Я также узнал (при последующем общении с пациенткой, которая делала именно то, что я ей говорил, и чувствовала поддержку, исходящую от моих слов, которые оказались правдой), что она кардинально изменилась. Семья говорила о «чуде». Этот случай помог мне понять, что пациенты могут кардинально измениться, если захотят.
Я до сих пор помню лицо пациентки, когда я объяснял ей это, – её первоначальный ужас, когда согласился, что люди будут следить за ней, а затем её заинтересованное и живое выражение, когда объяснял, как люди станут вести себя, если она изменится и будет сохранять это адаптивное поведение в течение относительно короткого периода. И снова в моей голове сложилась ясная картинка. То, чем я руководствовался, разговаривая с ней, было обычным здравым смыслом. Простая логика. Не было необходимости в цитировании заумных книг или погружении в 2000-летнюю греческую мифологию, чтобы объяснить ей её саму, её семью и ближайшее будущее. В сущности, было так просто, так легко понять, как люди становятся чокнутыми, и предсказать, как они могут стать нечокнутыми. Я осознал, что пациенты и их семьи проходят через закономерные взаимные перемены. И вместо того, чтобы принять умный и таинственный вид, я мог быстро и легко объяснить им это, чтобы они тоже поняли и могли применять в жизни.
Урок, который я вынес из этого случая, заключался в том, что некоторых из моих пациентов не нужно наблюдать пять дней в неделю в течение семи лет, как настаивали некоторые практикующие психотерапевты того времени. Это явно было невозможно, и я подумал: раз невозможно, то и не нужно. Необходимо найти что-то получше – более быстрый способ достучаться до этих людей и помочь им.
Гибель психотерапевта, практикующего клиент-центрированный подход
С 1961 по 1963 год я вёл еженедельные сессии с молодой пациенткой, которая тридцать шесть раз лежала в шести различных психиатрических больницах округа и штата. В течение первых 25–30 бесед я практиковал с ней клиент-центрированный подход. Примерно на тридцатой сессии пациентка использовала приём «я не это спросила», чтобы поколебать мою роль отзывчивого и внимательного специалиста. (Позже я применял её технику во время сессий, когда клиенты уклонялись от важной темы. Я научился идти напролом, рассуждая про себя: «С кем-то сработает, с кем-то не сработает, а кто-то бросит терапию», – и не слезать с нужной темы до тех пор, пока они либо не перестанут её избегать и обсудят открыто, либо перестанут приходить на сессии. В этой битве двух волевых человек 99 процентов пациентов выбирали обсуждение темы, вызывающей тревогу.)
Клиентка (смотрит пристально на психотерапевта, полузакрыв глаза, спокойно спрашивает): Что вы на самом деле обо мне думаете? Я хочу знать.
Психотерапевт (кивает): Мм, это важно для вас.
Клиентка (категорично): Я не это спросила.
Психотерапевт (делает короткую паузу, отвечает с теплотой): В вашем голосе слышно раздражение.
Клиентка (категорично, громче): Я не это спросила.
Психотерапевт (кивает головой): М-м-м, что-то вроде «Говори говорю, кому говорят!» Так?
Клиентка (ещё более настойчиво): Я не это спросила.
Психотерапевт (все ещё пытаясь нащупать пути отступления): Такое ощущение, что вам действительно нужно знать мнение постороннего человека?
Клиентка (ровным голосом): Я не это спросила.
Психотерапевт (со смехом): Вам непременно нужно знать, так?
Клиентка (ровным голосом): Я не это спросила.
Психотерапевт (думая про себя: «Ладно, чёрт с тобой, я сейчас перейду от слов к делу, и ты пожалеешь», в раздражении): Вы действительно хотите знать?
Клиентка (с еле заметной улыбкой и с той же интонацией): Я не это спросила. (5.2)
Затем я 15 минут рассказывал ей, что она – заноза в заднице для всех и каждого. Я не подбирал слова и не пытался придать голосу тёплый сочувственный тон. Я был зол и дал ей это понять. В конце моей тирады клиентка улыбнулась и самоуверенно сказала: «Я так и думала». Урок, который я извлёк из ситуации, заключался в том, что искренний гнев может оказаться полезным для клиента. Она иногда думала, что люди (не только я) раздражаются, выходят из себя и досадуют на неё за её поведение. Стремление узнать, что я чувствую и думаю о ней, перевели наши терапевтические отношения на новый уровень – мы стали доверять друг другу.
Через несколько месяцев я уехал в отпуск за пределы штата. Когда вернулся, то в ходе первой же беседы с ней (к этому времени она уже выписалась из больницы, и я наблюдал её амбулаторно) узнал, что она семимильными шагами возвращается к тому же типу поведения, который привёл к её недавней госпитализации. Я не смог сдержаться и гневно закричал: «Чёрт возьми! Я уезжаю из города на две недели, а вы уже тонете в том же старом дерьме! Вроде дела шли в гору, а теперь что на вас нашло?» В ответ на этот гневный выпад клиентка улыбнулась и кивнула сама себе. Она рассказала, что все её предыдущие психотерапевты, как только она начала поправляться, сокращали количество индивидуальных сессий, объясняя это тем, что не хотят, чтобы она стала слишком зависимой от них. Всё еще злясь, я прямо сказал ей, что не обязательно вести себя подобным образом, чтобы продолжать сессии со мной, и что я буду принимать её каждую неделю, пока мне не исполнится 94 года, а ей 82, и мы оба будем лежать в доме престарелых, а я буду шикать на неё сквозь беззубые десны. Она посмеялась над этим замечанием и тут же снова стала новой, улучшенной версией себя. Этот опыт научил меня тому, что стоит оставаться с клиентом до тех пор, пока я ему нужен. Я также узнал, что они могут включать и выключать безумное поведение в своих целях.
В течение последующих месяцев клиентка произвела в своём поведении ряд давно назревших и легко заметных изменений. После того как эти изменения были окончательно закреплены в её поведении, а повторяющийся цикл госпитализаций, казалось, окончательно прекратился, клиентка решила, что больше не нуждается в наших встречах. Во время последней беседы я спросил её, помнит ли она, как я вёл себя во время нашей первой встречи и как я «переключился» после её «я не это спросила». Я задал её вопрос: какой из двух способов работы кажется ей более полезным? Она сделала небольшую паузу, посмотрела на меня прямо и сказала: «Скажу так. Я не езжу каждую неделю по 400 километров туда-обратно, чтобы побыть в одиночестве».
Барт Старр, квотербек футбольной команды «Грин-Бей Пэкерс» как раз в то время (в начале 60-х годов) как-то сказал, что, когда после нескольких лет игры в Национальной футбольной лиге он занял позицию центра, у него внезапно будто пелена спала с глаз и он мог «прочитать» защиту соперника. Меня поразило, как точно он описал мой собственный новый профессиональный (и личный) опыт обучения пациентов и клиентов. В этом опыте присутствовала какая-то внезапность, будто пелена спала с моих глаз, будто кто-то включил свет, будто клинические феномены, на которые я так долго и пристально смотрел, вдруг оказались в фокусе.
Я испытывал волнение и восторг от каждого нового открытия, но иногда я доходил до отчаянья, хотел сдаться, думал, что мало кто (кроме друзей-психотерапевтов, таких как Форест Орр, Чарли Труакс, Аллин Робертс, Джин Гендлин, Джо Биледдо и некоторых других) говорит на «моём языке», а тем более понимает, о чем, чёрт возьми, я толкую.
Мне иногда вспоминалось высказывание Генри Торо: «Если человек не поспевает за своими товарищами, возможно, это потому, что он слышит другой ритм. Пусть он шагает под ту музыку, которую слышит, неторопливо и до тех пор, пока она не закончится». Иногда эта мысль поддерживала меня, а иногда казалась верхом поэтической глупости. Звучало красиво, но в голове часто и отчётливо возникала картина: я двигаюсь по своей дороге, а остальной мир идёт в противоположном направлении, и от этого моя «музыка» кажется какофонией диссонирующих, мрачных нот, от которых хотелось бежать за остальными с криком: «Эй, ребята, подождите меня!» Сказать, что временами я чувствовал себя одиноким, – значит не сказать ничего. Я не чувствовал себя брошенным, поскольку понимал, что сам принял решение идти по этой дороге, но иногда мне казалось, что я обязан идти по ней, что у меня нет выбора, как я неоднократно говорил Джун (точнее, кричал). Временами я чувствовал себя загнанным, связанным по рукам и ногам. Это был ад.
Но при обнаружении каждого нового кусочка головоломки я чувствовал и вёл себя одинаково. Я испытывал трепет и прилив сил, считал себя невероятным везунчиком и счастливчиком и одновременно испытывал острое ощущение, что моё предчувствие оправдалось: я так и знал, что недостающий кусочек окажется именно там, где я его искал. Я делился своей находкой с Джун, а потом и с коллегами, показывая им на примерах сессий с пациентами, как этот кусочек встраивается в общую картину. Наши споры и обсуждения были долгими, а порой и скучными (для них). Потом я возвращался в свою «лабораторию», то есть в кабинет, где проводил сессии, и испытывал этот новый приём на разных клиентах – группах, семьях и отдельных пациентах – пока не становилось очевидным, что, несмотря на то что это годный кусочек, который можно применить в ряде случаев, его всё равно недостаточно. Я был, вероятно, необходимым, но недостаточным условием перемен.
Реакция коллег на мои «открытия» была разной. Некоторые поддержали меня. Некоторые испытывали профессиональное любопытство и были озадачены. Другие разделяли моё волнение. А третьих вполне обоснованно раздражали мои безапелляционные и порой высокомерные утверждения о том, что я открыл Истину. Джек Теплински, молодой психиатр, участвующий в проекте Карла Роджерса, однажды раздражённым тоном спросил: «Когда же, чёрт возьми, ты разовьёшь в себе немного профессионального смирения?» Я ответил: «Пока я не могу себе этого позволить. Если бы мне было за 60, мои книги были бы переведены на множество языков и мне бы оказывали почести, как титулованной особе, тогда я был бы мягким, тёплым, скромным и с научной точки зрения осторожным». Его заливистый смех звучал дружелюбно и поддерживающе. Но его замечание: «Когда тебе будет 60, Фрэнк, не только твой подход будет тёплым и мягким», показалось мне неуместным. Но я понял, что у людей, которые со мной не соглашались, я учился не меньше, если не больше, чем у тех, кто меня поддерживал (потому что они провоцировали и стимулировали моё мышление). И у меня росло чувство, что я на правильном пути, что собираю кусочки опыта, которые были настоящими и живыми, что я не просто нахожу в них смысл, которого не было, но что головоломка медленно и постепенно начинает складываться в то, что мы сейчас называем «провокативная терапия».
Начало провокативной терапии
В июле 1963 года я продолжал участвовать в проекте Карла Роджерса, работая с хроническими шизофрениками в Государственной психиатрической больнице Мендоты. Во время девяносто первого интервью с пациентом, которого я буду называть «Били», я случайно отыскал то, что было кристаллизацией моего предыдущего опыта. Поскольку я ещё не обобщил свои знания и был рядовым участником проекта, я чувствовал себя несколько неуверенно, применяя клиент-центрированный подход к этому пациенту. По сути, я пытался донести до него три основные идеи: 1) вы имеете ценность и значение; 2) вы можете измениться; 3) ваша жизнь может стать другой. Он же, в свою очередь, настойчиво возражал: 1) я ничего не стою; 2) я безнадёжен и никогда не смогу измениться; и 3) моя жизнь всегда будет одним длинным психотическим эпизодом и госпитализацией. Становилось всё более очевидным, что эмпатического понимания, мягкой ответной реакции, теплоты, заботы и подлинной конгруэнтности просто недостаточно и мы ни к чему не придём. В тот момент я сдался и сказал ему: «Хорошо, вы правы. Вы безнадёжны. Теперь я буду соглашаться с вами в том, что вы думаете о себе».
Почти сразу же (в течение нескольких секунд или минут, а не недель и месяцев) он стал утверждать, что не так уж плох и безнадёжен. Легко наблюдаемые и измеряемые характеристики его поведения во время терапии начали меняться. Например, заметно ускорился темп речи, интонация вместо тусклой, замедленной, усыпляющей и однообразной стала более похожей на нормальный тон человеческого голоса, с переливами и легко заметными акцентами. Он стал меньше себя контролировать и демонстрировал юмор, раздражение и гораздо большую спонтанность. Со смущением в голосе он говорил о своём «регрессе» (любимый и центральный термин в его эмоциональном лексиконе), но он чувствовал, что я ему очень помог. Я ответил: «Помог? Чёрт возьми, я начал встречаться с вами год с небольшим назад в закрытом отделении, потом вас перевели в открытое отделение, потом выписали из больницы, и вот вы снова в закрытом отделении. Если я вам чем-то помог и есть хоть какой-то прогресс, то вы движетесь со скоростью черепахи, закатанной в бетон». Он покраснел и заявил, что мне не следует ожидать от него слишком многого слишком быстро: «Вероятно, мне потребуется провести в больнице два или три года, прежде чем меня выпишут!» Сердце у меня ушло в пятки, но я спокойно ответил: «Да, я уже вижу, каким вы станете. Мы ходим кругами. Ваш регресс, вероятно, будет усиливаться, как вы всё время утверждаете, пока я не начну кормить вас с ложечки детским питанием, как маленького ребёнка». Затем я добавил, как бы уговаривая его: «Ну же, Били, скушай ложечку за маму». Он покраснел и разразился хохотом; я продолжил: «Потом вы, вероятно, потеряете контроль над кишечником и мочевым пузырём (тут он снова покраснел и разразился взрывом хохота), и мне придётся менять вам подгузники, которые мы будем делать из простыней, поскольку у вас необъятный зад, и наконец ко времени нашей 191-й сессии ваш случай опишут в медицинских учебниках». Пациент выглядел озадаченным и осторожно спросил: «Почему?» Я ответил: «Ну, Били, если вы продолжите регрессировать, то к тому времени вы станете первым новорождённым с лобковыми волосами в истории».
Далее я устало намекнул, что, вероятно, он прав: скорее всего, остаток жизни он проведёт в психиатрической больнице. Через шесть сессий его выписали. Когда через год он вернулся, я сразу же отправился в его палату, зашёл в комнату отдыха, где он сидел, и, широко раскинув руки и громко засмеявшись тому, что моё пророчество сбылось, поклонился: «Фаррелли. Фрэнк Фаррелли», – сказал я. Через две недели он выписался и с тех пор не возвращался.
Именно после девяносто первой беседы с Били я почувствовал, что основные части клинической головоломки складываются для меня в единое целое. Я реально ощутил прилив силы оттого, что открыл для себя логическую цепочку «если…, то…» – центральную (как я считал тогда и считаю до сих пор) в отношениях психотерапевта и пациента (см. главу «Допущения и гипотезы»). Я нашёл свой путь во взаимоотношениях с клиентами, и все части моей личности теперь воспринимались мною как то, что можно использовать для помощи пациентам.
Случай с «отвратительной» домохозяйкой
Вскоре после 91-го интервью с Били я заинтересовался возможностью использовать этот подход с новым пациентом в ходе первичной беседы. Некоторые из моих коллег, с которыми я консультировался в то время, предположили, что изменения Били могли быть связаны с тем, что латентная взаимосвязь наконец-то проявилась или что он переживал период спонтанной ремиссии своей психотической симптоматики. Меня не удовлетворили эти объяснения, и я попытался выяснить, смогу ли я вызвать те же самые реакции у другого пациента.
В то время меня попросили стать консультантом в случае молодой замужней домохозяйки, которая была убеждена, что ей необходима госпитализация. Смысл её слов, которые она повторяла снова и снова, был таков: «Меня нужно запереть в психиатрической больнице, а ключ выбросить». Персонал был озадачен её поведением, поскольку она, казалось, вполне успешно справлялась со своими функциями жены, домохозяйки и матери. Мне показалось, что это прекрасная возможность опробовать свой новый подход на амбулаторном пациенте, поэтому я согласился встретиться с ней и, осмотрительно убрав пепельницу со стола, за которым мы сидели, беседовал с ней около часа. Мне было очень трудно сохранять серьёзное выражение лица, скрывая своё удивление и сдерживая смех, вызываемый собственной «ложью», когда я соглашался с её явно негативной самооценкой.
Мне показалось, что в ходе беседы я вёл себя крайне оскорбительно, а в конце нашего разговора спросил её, что она обо мне думала. Я сделал это потому, что, хотя в отношениях «психотерапевт – пациент» важно, как я сам себя воспринимаю или как меня воспринимают другие (супервизоры, коллеги-психотерапевты и т. д.), решающим фактором в оказании помощи человеку с психическими расстройствами является субъективное восприятие психотерапевта самим пациентом, поскольку именно на основании этого восприятия он будет действовать. В связи с чем я и задал ей этот вопрос, и она сказала (никогда не забуду): «Вы самый понимающий человек, которого я когда-либо встречала. Вы действительно понимаете, насколько я плохая». Я очень хорошо помню свою реакцию на её слова – ошеломлённое недоумение, ведь хотя она явно поверила мне, я сам не верил и десятой части того, что наговорил ей во время интервью.
За годы, прошедшие после случаев с «распутной девственницей», «лестничным» клиентом, опасным психопатом и другими пациентами, я пытался придать своим реакциям искренность и заботливое участие, сделать наши сессии эмоционально честными. Большинству пациентов это помогло, хотя довольно многие время от времени говорили, что моя забота о них «слишком хороша, чтобы быть правдой», или «ну вы же обучены заботиться о таких, как мы, Фрэнк», или «вам платят за заботу», или «вы так относитесь ко всем». Короче говоря, моё доброе отношение вызывало у клиентов недоверие, хотя и было искренним.
В случае с этой клиенткой, как и в случае с Били, я согласился с её негативным отношением к себе и даже пошёл ещё дальше, предположив, что, поскольку она действительно знает, что в целом довольно отвратительна, ей, должно быть, трудно поверить в слова мужа о любви и нежности. Часто результатом моей неподдельной честности с клиентами было недоверие с их стороны, а результатом моей «лжи» – их вера. Работа психотерапевта может быть безумным, перевёрнутым миром, похожим на мир книги «Алиса в Стране чудес».
Сказать, что я был заинтригован и взволнован возможностями своего нового подхода, значит не сказать ничего. В тот вечер я расхаживал по дому, доказывая Джун, что я знаю, каково было Колумбу, когда он открывал Америку, с энтузиазмом сравнивая и сопоставляя то, как я работал с клиентами на предыдущих сессиях, и то, как я собирался работать с ними сейчас. Я чувствовал, что что-то «завоевал». Победа была сладкой, а отдача, которую я ощущал, резко контрастировала с той, что я получал раньше, – слезы, рвотные позывы, рвота, беспокойный сон, борьба и разочарование в своей работе.
Я начал экспериментировать с групповой терапией, семейной терапией, встречами терапевтического сообщества (общие собрания в больнице, на которых весь персонал и пациенты данного отделения собираются вместе и проводят совместные обсуждения). Подобным же образом я работал со всеми диагностическими категориями (шизофрения, невротические расстройства и расстройства личности), со стационарными и амбулаторными пациентами, с самыми разными возрастными группами клиентов – от дошкольников до пенсионеров. И наконец, примерно через четыре месяца после девяносто первой беседы с Били, я перешёл на этот подход в своей частной практике. Перед этим у меня было видение: все мои клиенты уходят, угрожая исками о халатности и бормоча сквозь зубы: «Какого чёрта я должен оставаться здесь и слушать, как вы меня оскорбляете, когда я могу пойти домой и мои домашние сделают то же самое? И мне не придётся платить за это». Мои прогнозы не оправдались. Причины этого будут рассмотрены далее в книге.
По мере накопления опыта применения нового подхода мне стало ясно, что решающую роль в нём играет не только моя личность, но и то, что, помимо меня как психотерапевта, существуют методы и допущения, присущие системе в целом. В литературе по психотерапии есть множество описаний судьбоносных бесед, во время которых разные психотерапевты открывали свои техники или теоретические системы. Например, Фрейд «наткнулся» на свою процедуру «прочистки дымохода»[5], работая с истериками; Альберт Эллис (1962) рассказывал о конкретной беседе, в которой он открыл рационально-эмоциональную поведенческую терапию; Карл Роджерс (1961) в своей работе This is me (Это я) рассказывает о решающем разговоре с матерью «невылеченного» пациента; и, наконец, у меня было девяносто первое интервью с Били. Как хорошо сказал Бланшар (1970):
В научном мире принято сообщать о появлении новой теории так, как будто она возникла медленно и неизбежно в результате тщательного анализа постепенно накопленных данных. Учёный рисует себе такую картину: он упорно трудится над своим методом, находит некое несоответствие в результатах экспериментов и близоруко отслеживает это несоответствие, пока не спотыкается о порог теории. На самом деле гораздо чаще теория возникает в воображении учёного как неожиданное предположение, и бо́льшую часть времени он тратит на поиск фактов, которые бы в неё вписывались.
Здесь необходимо подчеркнуть два момента. 1) Новые системы психотерапии обычно не формулируются психотерапевтами в отрыве от постоянного погружения в психотерапевтический процесс. В отличие от мифического ученого-бихевиориста, который как бы сидит в башне из слоновой кости, излагает свои предположения относительно поведения человека, а затем дедуктивно выводит те формы поведения, которые являются излечивающими, по моему опыту, терапевтические системы развиваются индуктивно из совокупного и непосредственного опыта психотерапии, когда психотерапевт пытается найти смысл в своём опыте. 2) Психотерапевты, не являющиеся создателями психотерапевтических систем, могут – и делают это – эффективно использовать такие системы в работе с клиентами, даже если они накладывают собственный индивидуальный отпечаток на них.