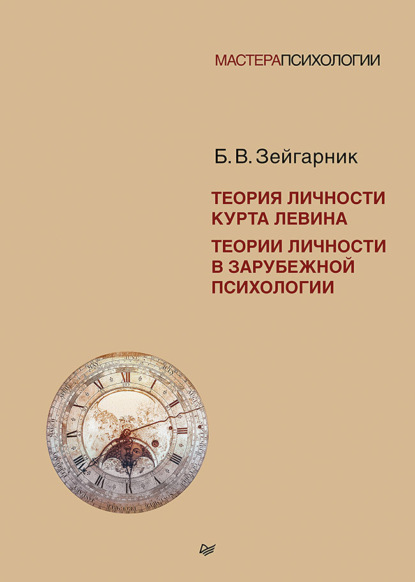Полная версия
Провокативная терапия
Погружение в контекст психиатрической больницы и работа с группой коллег-профессионалов, вероятно, были во многом решающими для меня. Особенно полезным, в частности, стало прослушивание терапевтических сессий. На этих сессиях, проводившихся раз в неделю с 1958 по 1960 год, мы, практикующие врачи-психотерапевты, прокручивали друг другу свои сессии, записанные на плёнку. Благодаря им я понял, как по-разному чувствуют себя клиенты, как по-разному психотерапевты реагируют на них (хотя и в рамках клиент-центрированного подхода), но главное – я получал постоянную обратную связь касательно моей профессиональной работы. Я понял, что открыто демонстрировать результаты своей работы – значит сносить удары пращей и стрел[3], но в то же время открыть для себя неисчерпаемый источник профессионального развития.
Случай с мнимым психом
Вскоре после прихода в Мендоту я начал работать в мужском приёмном отделении и наблюдал пациента с историей неоднократных госпитализаций. Он получал ветеранское пособие, так как убедил армию, что полгода службы каким-то образом свели его с ума. С тех пор он не работал, и его жизнь превратилась в своеобразный круговорот: он ложился в психиатрическую больницу, скапливал несколько тысяч долларов в виде пособия, выписывался из больницы и тратил пособие, в том числе на недельные запои. Я использовал с ним клиент-центрированный подход, хотя мне становилось всё труднее искренне сопереживать ему, когда он рассказывал о том, как победил систему. Как-то он написал несколько пугающе-непристойных писем молодой секретарше в больнице. Я узнал, что автором был он, ужасно разозлился и сказал: «Если ты напишешь ей ещё хоть одну подобную строчку, я лично прослежу за тем, чтобы тебя заперли в одиночной камере, а ключ выбросили». Он гневно и поспешно ответил: «Вы не сможете привлечь меня к ответственности – я психически болен!» Я был ошеломлён, ведь раньше пациенты не пытались спрятаться за подобным оправданием. Я понял, что, проявив свой гнев, заставил его забыть об осторожности и внутренней цензуре и тем самым добрался до его интуитивно найденной и главной идеи: он может делать всё, что ему нравится, потому что он психически болен. Мне также стало ясно, что я имею дело с пациентом, которому был поставлен официальный диагноз психически больного, якобы потерявшего связь с реальностью, и который очень точно воплощал собой ключевую идею того, чему меня учили (и практически всей нашей области знания): эмоционально и психически неуравновешенные люди не могут вести себя иначе и не должны отвечать за свои действия, а, наоборот, обладают иммунитетом против обычно ожидаемых последствий своего антисоциального поведения.
Поэтому я ответил ему так: «Я не могу привлечь вас к ответственности, да? Ну что ж, продолжайте, приятель, и посмотрим, как далеко это вас заведёт». Так я отмёл в сторону всё, чему меня учили, а также лейтмотив медицинской литературы того времени (который очень часто встречается и по сей день). Ещё я сказал ему, что зол на него и что независимо от того, считает ли он это справедливым, по моему мнению, он несёт ответственность за своё поведение и молчать об этом я не собираюсь. В оставшиеся недели и месяцы госпитализации он больше не писал подобных писем ни одной женщине в больнице, и я пришёл к выводу, что душевнобольные вовсе не теряли контакта с реальностью, а прекрасно осознавали, что делали в большинстве случаев, и хитроумно пользовались социальной системой. Но в то время это осознание не принесло мне облегчения, и я решил забыть о нём на время – такая же реакция была у меня и на некоторые другие события, произошедшие во время моей клинической практики.
История моего позора
В 1959 году я начал проводить консультации вне больницы раз в неделю; одним из моих первых случаев, переданных мне другим сотрудником, стала жена одного из наших пациентов. Коллеги считали, что у пациента паранойя по поводу верности его жены, и задача состояла в том, чтобы понять, обоснованна она или нет. Один из коллег тогда сказал: «Я подозреваю, что она была ему неверна, но в беседах за последний год она это неоднократно отрицала». В первый же день – это был понедельник, – когда я должен был встретиться с ней, я проспал. Джун разбудила меня и объяснила, что неправильно завела будильник, я впопыхах оделся, выпил чашку кофе у входной двери, прыгнул в машину и быстро поехал в уединённый фермерский дом, где жила жена пациента. Помню, что чувствовал себя очень взволнованным и думал: «Вот и всё. Теперь я консультант». Помню также, что во время поездки я говорил себе, что должен, полагаясь лишь на свои ещё небогатые профессиональные навыки, успешно провести встречу, ведь я один и помощи просить не у кого.
Во время разговора женщина сидела на диване напротив меня. Я наклонился вперёд, поставив локти на колени и раздвинув ноги, пытаясь донести до неё, что нам необходимо выяснить правду: если она была верной женой, то у её мужа действительно паранойя; а если нет, то мы держим его в больнице необоснованно. На протяжении беседы она избегала зрительного контакта, и казалось, что она смотрит на мой галстук с неопределённым, озабоченным выражением лица. К моему удивлению, она призналась в измене и подробно рассказала о том, с кем у неё были сексуальные отношения, пока её муж находился в больнице и до его госпитализации.
Я ехал обратно, надувшись от гордости, полный воодушевления, чувствуя себя очень умелым, настоящим профи. Я также злорадствовал по поводу того, что мой коллега безуспешно бился над этим вопросом целый год, в то время как я смог получить информацию за один разговор. И я подумал: «Чувак, настоящий профессионализм всегда побеждает».
Ликование длилось до тех пор, пока я не приехал в свой офис. Я пошёл в туалет помочиться и обнаружил, что моя ширинка была расстёгнута всё время, пока мы беседовали с женой пациента. Я покраснел, как свёкла, от острой неловкости и минут пять не выходил из кабинки – настолько я был взволнован. Вернувшись в больницу, я рассказал персоналу о том, что произошло. Они громко хохотали по поводу моего нового подхода к лечению. «Лечение расстёгнутой ширинкой» – так они его обозвали. Друзья-психотерапевты многозначительно говорили, что это подтверждает сентенцию: «Измени стимул – и ты изменишь реакцию». (Следует добавить, что пациент был в скором времени выписан с рекомендациями амбулаторного лечения для него и его жены.)
Из моего «позора» можно было извлечь несколько уроков. Я понял, что наряду с болью и трагедией в психиатрии случаются одни из самых смешных случаев, которые я когда-либо слышал, и что комическая и трагическая театральные маски, похоже, символизируют основные темы в клинической практике. Я научился смеяться над собой, над своими ошибками, делиться своими «ляпами» и понял, что другие психотерапевты часто проявляют сочувствие и поддержку, если я открыто рассказываю о своей профессиональной деятельности.
Эксперимент по конгруэнтности: случай Клема Кадидлхоппера
В том же году (1959) я уговорил больничного психиатра отделения провести со мной «эксперимент». Я сказал ему, что знаю, что эмпатия, тёплое отношение к пациентам и забота о них полезны. Но я недавно прочитал книгу Карла Роджерса Necessary and Sufficient Conditions of Psychotherapeutic Personality Change (Необходимые и достаточные условия психотерапевтического изменения личности) (1957) и хотел провести эксперимент по достижению максимальной конгруэнтности и искренности психотерапевта во время сессий и оценить их эффект. Моя идея была такова: мы выберем пациента, с которым никто не хотел работать, будем записывать каждую сессию на плёнку (то есть получасовую сессию и получасовой разбор полётов) и во время сессии будем описывать пациенту все свои мысли, чувства или реакции на него. При этом мы должны быть конгруэнтными не только с пациентом, но и друг с другом; если один из нас говорил пациенту что-то, что другому не нравилось или было неприятно, мы тут же «вызывали друг друга на разговор» прямо в присутствии пациента.
После того как я всё подготовил, в кабинет вошёл пациент и сразу же спросил: «А мы будем записывать эту сессию на плёнку?» Пациент представлял собой неподражаемое зрелище: беззубый рот, длинные рыжие волосы стоят торчком – он выглядел так, будто держится за электрический забор. У него были прищуренные поросячьи глазки, нос в форме луковицы ярко-красного цвета, а разговаривал он как комедийный персонаж Клем Кадидлхоппер в исполнении Реда Скелтона[4].
Я тут же начал истерически смеяться, держась за живот, и смеялся до тех пор, пока слезы не потекли по лицу. Мой коллега замер, отстранился от меня, нахмурился и сказал: «Фрэнк, так нельзя… Что вы делаете?» Я задыхался от неудержимого смеха: «Ничего не могу с собой поделать – он такой смешной!»
«Клем» перевёл взгляд с меня на моего коллегу и сказал: «Нет, всё нормально, в этом-то и заключается проблема. Я пытаюсь рассмешить людей, а они смеются, когда я этого не хочу, и я обижаюсь, злюсь и попадаю в неприятности». Бинго! (Наши эксперименты продолжались еженедельно, состояние пациента значительно улучшилось, и через месяц-другой его выписали.) Мне стало ясно: радикальная конгруэнтность, если её придерживаться, очень помогает пациентам во время сессий, а я могу смеяться над пациентами не только без ущерба для них, но даже с пользой, и смех над пациентами не является неизбежным унижением их достоинства. Я также чувствовал себя очень раскрепощённым на сессиях. Я не ломал себя, а моё восприятие клиентов и моё поведение с ними не шли в противоположных направлениях.
Случай с опасным психопатом
В 1959 году мне довелось работать с пациентом, который находился под наблюдением, поскольку считался опасным. Я собрал подробную историю его семьи. Он, в свою очередь, знал, что я разговаривал с его женой и матерью и на неделе буду представлять своё заключение на консилиуме. Он беседовал с психиатром и психологом и теперь хотел видеть меня. Хорошо подобранными словами и с большой искренностью он в течение двадцати минут рассказывал о том, что с тех пор, как он попал больницу, у него появилось время подумать: он увидел, что его жизнь превратилась в хаос, понял, что им с женой нужна супружеская консультация, и хотел бы получить её после выхода из больницы. Он также осознал, что ему необходимо пройти обучение, чтобы получить востребованные на рынке профессиональные навыки, и проч.
На протяжении его выступления я сидел и слушал; в конце он спросил меня: «Ну, мистер Фаррелли, что вы думаете о моем случае?» В тот момент я мысленно увидел как бы написанное мелом на доске предложение: «Поскольку я не собираюсь проводить терапию с этим пациентом, я могу позволить себе быть с ним честным». Сперва я почувствовал неловкость, «увидев» это предложение, но после паузы спросил пациента: «Вы действительно хотите знать, что я думаю?» Пациент кивнул и ответил серьёзно и искренне: «Да, сэр, поэтому я и спросил». Я глубоко вздохнул и сказал: «Ну, думаю, что это самая хитрая афера, которую со мной когда-либо пытались провернуть». Наклонившись вперёд, с разъярённым выражением лица он прорычал: «Мне хочется сказать вам “да пошли вы”, встать и уйти». На что я ответил: «Ну почему бы и нет?» «Потому что я хочу до вас достучаться», – взорвался он и тут же на моих глазах изменился. Более получаса он говорил рваными фразами, перескакивал с темы на тему, демонстрировал примитивные выражения ярости, которые едва удавалось контролировать, заметно менял тембр голоса, скорость речи и выбор слов, демонстрировал испуг от того, что «сошёл с ума». Одним словом, между первой и второй частями разговора проявился заметный контраст, причём последняя часть была подлинной.
Я объяснил ему, что мне нужно в другое здание на территории больницы. Когда мы ехали в машине к другому зданию, он спросил меня: «Меня положат в больницу или отпустят?» Я ответил: «Не знаю, но как только я узнаю об этом после консилиума, скажу вам первому». Он продолжил: «Если меня все-таки выпустят, смогу ли я снова приходить к вам на терапию?» «Зачем?» – спросил я. Он задумчиво потёр ногу о сиденье автомобиля и медленно ответил: «Ну, я интересуюсь психологией…» В раздражении я повторил: «Хватит нести чушь. Почему я?» Он сделал паузу, а затем приглушенным тоном заявил: «Я скажу грубо». «Валяйте», – ответил я. «Потому что ты не засираешь мне мозги всякой ерундой».
Поговорив с этим пациентом эмоционально честно, я обнаружил, что за один час смог построить с ним доверительные отношения лучше, чем с некоторыми пациентами за несколько месяцев бесед.
Случай с распутной девственницей
В 1960 году я вёл терапевтическую группу в стационаре, в котором было десять пациенток. Мне запомнилась молодая женщина двадцати лет с пограничной умственной отсталостью, которая на сессии говорила в основном о том, что ей хорошо в государственной психиатрической больнице, потому нравится ходить в кино, на танцы и в столовую, заниматься боулингом, плаванием, бейсболом, волейболом, игрой в подковы, баскетболом и теннисом (которые были частью больничной рекреационной терапии), но она хотела бы знать, когда начнутся занятия по верховой езде. Остальные женщины посмеялись над ней, но я был раздражён и обвинил её в том, что она вела себя здесь не как пациентка в больнице, а как гостья в дорогом загородном клубе. Я видел благотворные результаты, которые давала пациентам наша обширная программа рекреационной терапии, особенно людям с невысоким уровнем образования, которые не были ориентированы на разговорную терапию. Однако мне стало ясно, что у некоторых пациентов мы развивали зависимость от госпитализации и её преимуществ в попытке компенсировать их «лишения».
Я сказал ей, что она проходит терапию не для того, чтобы приятно проводить время, а для того, чтобы выяснить, почему она попала в больницу и как из неё выбраться раз и навсегда. Она разрыдалась и заявила, что расстроена, потому что «парни вокруг говорят, что я шлюха, но это не так – я на самом деле девственница». В тот момент я находился в сильном раздражении и ответил ей: «Ну, ты говоришь как шлюха, одеваешься как шлюха, ходишь как шлюха и выглядишь как шлюха. И ты рассказывала грязные шутки в кафетерии. Так что, по-твоему, должны были подумать те парни? Скорее всего: “Чёрт возьми, если она так ведёт себя на людях, то что же она делает, когда остаётся одна?” Дело не в том, какова ты на самом деле, а в том, какой образ ты создаёшь в сознании людей – они будут относиться к тебе с точки зрения того субъективного образа, который у них о тебе сложился».
Пациентка со слезами на глазах заметила: «Но я не такая». Тогда другие женщины в группе сказали ей: «Джорджи, Фрэнк прав. Мы знаем, что ты не такая девушка, а вот парни из кафетерия не знают…» Она носила блузку, по крайней мере, на несколько размеров меньше, чем нужно, из-за чего пуговицы на её большой груди еле сходились, и узкую юбку, которая была по крайней мере на 15 сантиметров короче, чем надо (дело, кстати, происходило задолго до того, как в моду вошли мини-юбки), и вообще она вела себя именно как «такая» девушка.
К этому времени она уже тихо всхлипывала и спрашивала женщин, что ей делать, ведь «она же действительно не такая». Они предложили ей помочь с одеждой, поведением и манерой говорить, и она с готовностью приняла их помощь. Не прошло и недели или десяти дней, как она носила блузку, которая была ей впору (её грудь всё ещё приковывала взгляды, но всё же выглядела несколько более скромно), волосы были уложены в привлекательную причёску, макияж был естественным, юбка – до колена (в соответствии со стилем того года). Она ходила так, что уже не казалось, будто её зад – это семафорный флажок, прикреплённый к двигающимся как на шарикоподшипниках бёдрам, не рассказывала пошлых шуток и вообще выглядела, как говорили другие женщины в группе, очень привлекательной молодой леди.
Группа помогла Джорджии: её депрессия прошла, поведение резко изменилось, а слухи внезапно прекратились. У неё завязались новые дружеские отношения, она поняла разницу между теплотой и дружелюбием и откровенной сексуальностью, она почувствовала, что стала уважать себя и получать уважение от других. Её семья была в восторге от произошедших перемен и хотела, чтобы она вернулась домой. Уже через две недели пациентка нашла работу. С тех пор она не возвращалась в больницу.
Я был в эйфории, буквально летал. Джорджия преобразилась. Это преображение было легко увидеть. Это была не какая-то скрытая спонтанная ремиссия, а нечто осязаемое, измеримое и легко наблюдаемое, и по крайней мере несколько десятков человек (персонал, пациенты и члены семьи) признали изменения, которые произошли.
Из случая с «распутной девственницей» я вынес несколько основных уроков. Во-первых, стало ещё более очевидным, что люди могут кардинально меняться и эти изменения могут быть постоянными. Во-вторых, они могут измениться за относительно короткий промежуток времени. В-третьих, порочный круг чувств, установок и поведения, который работал во вред пациенту, можно превратить в благотворную цепную реакцию: 1) изменение поведения, 2) похвала и положительная обратная связь, 3) изменение чувств и внутренних установок, а далее ещё более кардинальные изменения поведения и, как следствие, ещё большая похвала и положительная обратная связь.
Кроме того, я узнал, что группа способна изменить человека. Я считал, что групповая терапия – это поверхностная, хотя и экономичная замена индивидуальной терапии, но опыт работы в этой группе радикально перевернул моё представление. Я вдруг осознал, что если заставить пациентов сосредоточиться на том, что чувствуют и думают о них другие люди, и показать им, как изменить негативную оценку со стороны окружающих, то они смогут относительно быстро добиться изменений в самих себе. И, наконец, я убедился, что люди будут относиться к вам в соответствии с тем образом, который сложился у них о вас, и неважно, какой вы есть на самом деле. Итак, задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь пациенту «услышать» эту обратную связь, 1) рассказав о ней пациенту, 2) заставив его прислушаться к тому, что ему говорят другие (а эта обратная связь – один из самых мощных источников изменений – доступна постоянно); 3) и, наконец, сподвигнув его ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствии с этой информацией.
Контрперенос
В клинической практике начала 60-х годов одной из самых распространённых страшилок была фраза: «Следите за своим контрпереносом в отношении клиентов». В то время со мной произошёл ряд событий, которые радикально изменили мои представления и профессиональное поведение в этом отношении.
Я работал с пациентом-мужчиной, который любил нарушать общепринятые правила и оправдывался тем, что он психически болен. Я помню один наш разговор. Он стоял на ступеньку выше меня на лестнице, а я делал ему замечания по поводу его поведения и сказал, что люди сыты им по горло. В тот момент он воскликнул: «Вы говорите прямо как мой отец!» (Раньше он упоминал, что именно отец стал причиной его психического заболевания.) Я почувствовал себя застигнутым врасплох, а в голове пронеслась мысль: «О Боже, теперь я все испортил!», но к собственному изумлению и даже оглянувшись через плечо, чтобы посмотреть, кто это сказал, я выпалил: «Тогда мы с твоим отцом отлично поладили бы, приятель!»
В клинической практике и личной жизни мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобными ситуациями: я думал одно, а говорил совершенно другое, часто прямо противоположное моим мыслям. После разговора на лестнице во мне начало просыпаться осознание того, что мои «ляпы» зачастую попадают в самую точку и оказывают больше воздействия на пациентов, чем выверенные профессиональные слова. Примерно в то же время я как-то разговаривал за обедом с коллегой о своих «ляпах» и контрпереносах и зарождающихся подозрениях о том, что они часто, если, конечно, продемонстрировать их пациенту, оказываются наиболее полезными. Помню, как он сказал: «Я всегда стараюсь сдерживать своё раздражение во время сессий». Я ответил: «А знаете, что я стараюсь делать? Я пытаюсь донести до пациентов, что я чувствую. Кажется, мои чувства лучше, чем подготовленные профессиональные ответы».
Затем я рассказал ему о почти физически осязаемом ощущении – я беру руками свою голову, снимаю её с плеч и помещаю в кресло, стоящее рядом, в то время как остальной я интенсивно выражаю свои контрперенесённые чувства в беседе с клиентом. Вместо того чтобы кропотливо составлять возможные ответы на слова пациентов, теперь я, казалось, имел доступ к неисчерпаемому запасу слов и реакций (ранее не использованному). Хотя эти мои слова и реакции в какой-то мере беспокоили меня, тем не менее они регулярно оказывались полезными.
Объяснение, которое я тогда нашёл (в разговоре с коллегами), частично заключалось в следующем: похоже, люди становятся пугливыми, подозрительными, боязливыми параноиками, потому что не имеют представления об истинных чувствах других людей и не могут получить правдивой реакции других людей на себя и свои действия. Когда я разговаривал с семьями пациентов, они часто рассказывали мне о своих чувствах по отношению к госпитализированному члену семьи. Я отчётливо помню один случай. Ко мне на консультацию пришла жена пациента. Она плакала, злилась на мужа, долго рассказывала о проблемах с ним и их браком, боялась его реакции, когда она впервые увидит его в палате, чувствовала себя очень плохо из-за его пребывания в больнице и искренне скучала по нему.
После того как я молча выслушал её, она спросила: «Как вы думаете, что я должна сказать ему, когда увижу его?» Я показал на свои записи и сказал: «Почему бы вам не сказать ему всё это: как вы скучаете по нему, как вы злитесь на него, как вы чувствуете себя виноватой за то, что его поместили в больницу, как вы не можете больше мириться с его поведением, как вы хотите, чтобы он поскорее вернулся домой, и т. д.?» Женщина была в шоке, а меня вдруг осенило: неудивительно, что наш пациент был подозрителен, напуган и растерян. Он имел на это полное право, ведь он чувствовал, что от него что-то скрывают, – вот и всё. Вот в чём заключалась проблема!
Когда я рассказал о «лестничном» разговоре своим друзьям, они посоветовали мне книгу Стендола и Корсини Critical Incidents in Psychotherapy (Критические инциденты в психотерапии). После прочтения я подумал: всё, что написано в книге, перекликается с моим опытом: после сотого разговора с пациентом психотерапевт, наконец, снимает свою профессиональную маску, выплёскивает давно сдерживаемые чувства и пациенту становится лучше. Единственным объяснением улучшения пациента могло быть то, что эти чувства не были контрпереносом, они были очень уместной и необходимой для пациента информацией, с которой ему нужно было разобраться.
Мне также посоветовали ознакомиться с исследованием Уайтхорна, посвящённым стилям А и Б в общении с пациентами. Оно укрепило мою уверенность в том, что следует продолжать выражать свои чувства и истинные мысли по отношению к пациентам. Кроме того, я всё больше убеждался в том, что мой собственный опыт – хотя я и был неизвестным, относительно неопытным специалистом – имел для меня значение. Его можно использовать как дополнительные кусочки головоломки, которую представляет собой клиническая психотерапия.
Психотерапевт – садовод, акушерка или…?
В 1961–1963 годах, когда я работал психотерапевтом в рамках проекта Карла Роджерса в Государственной психиатрической больнице Мендоты, мы проводили еженедельные административные и клинические планёрки. Именно на одной из клинических планёрок я начал примерять на себя новую роль в общении с пациентами и клиентами.
Два образа, по-видимому, имели особое значение для Карла, когда он говорил о роли психотерапевта, – это акушерка и садовод. Я помню, он неоднократно повторял, что садовод просто создаёт подходящие условия для роста семени. Точно так же, по его мнению, поступает и психотерапевт, инициируя трансформацию клиента. (См. статью Карла Роджерса The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (Необходимые и достаточные условия психотерапевтического изменения личности), 1957 год.)
А акушерка – еще одна аналогия, которую он использовал, – не создаёт человека, а лишь помогает ему родиться.
Я всё больше разочаровывался в клиент-центрированном подходе: мы ожидали, что пациент сам инициирует если не все, то многие, правильные действия и модели поведения. И я отчётливо помню планёрку, на которой, наконец, выплеснул своё разочарование: «Меня тошнит от попыток превратиться в садовода или акушерку. Я не подхожу ни на ту, ни на другую роль. Мне хочется расколоть твёрдую оболочку этих людей, добраться до их сердцевины и влить в них немного ЖИЗНИ». (Говоря это, я размахивал руками, будто боксировал с воображаемым противником, резко раскрывал ладони с растопыренными пальцами, чтобы показать, как «вливаю в них жизнь».) Аллин Робертс, который слушал меня, захихикал и заявил: «Фрэнк, ты такой фаллоподобный!»