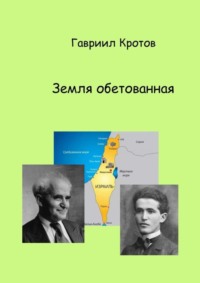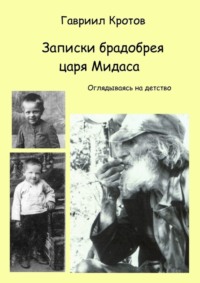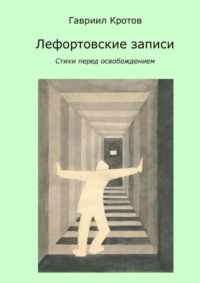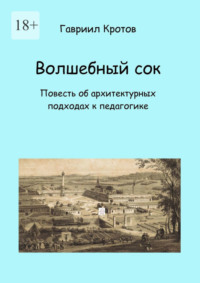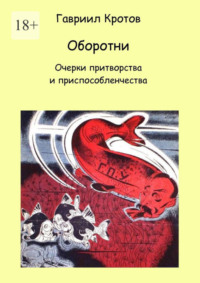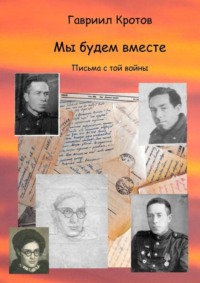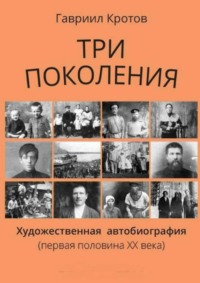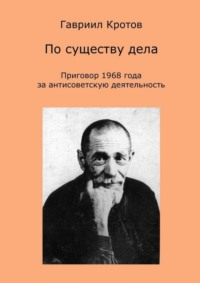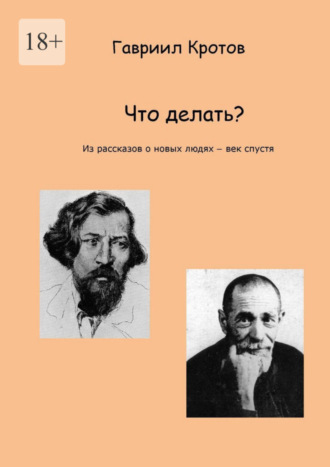
Полная версия
Что делать? Из рассказов о новых людях – век спустя
Пошли ужинать. Ужинали молча.
На другой день вечером, придя с работы, Павел Константинович угрюмо сказал жене:
– Звонил Михаил Иванович.
– И ты сказал?
– А что же мне оставалось делать?
– Дурак ты, дурак! Надо ещё поговорить с Веркой, припугнуть её, а ты – на, отрубил…
Долго ещё продолжался этот урок и конца ему не было видно, но вдруг раздался звонок.
Мария Алексеевна открыла дверь и увидела Сторешникова.
– Где Вера Павловна? Мне нужно видеть её сейчас же. Неужели она отказывает?
Обстоятельства были так трудны, что Мария Алексеевна только махнула рукой.
* * *
– Вера Павловна, вы отказываете мне?
– Судите сами, могу ли я не отказать вам?
– Вера Павловна, я жестоко оскорбил вас. Я виноват и достоин презрения, но я не могу перенести вашего отказа. Мой поступок был совершён в ослеплении страстью и любовью к вам… – и так далее, и так далее.
Верочка слушала его несколько минут. Наконец решила прекратить, так это было тяжело и противно.
– Нет, Михаил Иванович, довольно, перестаньте. Я не могу согласиться.
– Может быть, на моём пути стоит счастливый соперник? Кто-нибудь из этих стиляг-пижонов вскружил вам голову воздушными замками будущего блаженства?
– Соперника вообще нет, а эти стиляги внушают мне отвращение. Они – неоперившиеся хищники. По сравнению с ними вы даже внушаете уважение. Ваш цинизм имеет мощную форму, а у них – голенькое тельце, нелепые культяпки вместо крыльев, огромные рты и животики. Они ещё не способны выискивать и терзать добычу. Они гаже вас в своём бессилии. Мне их порой даже жалко. У них нет и воздушных замков. Долго им ещё оперяться и приспосабливаться. Они буду сдерживать аппетит и подлость, так как у них нет сильной руки, которая помогла бы им быстро пройти путь приспособленчества. Пожалуй, из них не выйдет вообще смелых хищников.
Сторешников не замечал яда этих слов. Его успокаивало отсутствие соперника.
– Я прошу у вас одной пощады: вы теперь ещё слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас… Не давайте теперь мне ответа, оставьте мне время заслужить ваше прощение. Я кажусь вам низким, подлым, но посмотрите, быть может я исправлюсь. Я употреблю все силы на то, чтобы исправиться. Помогите мне, не отталкивайте меня теперь. Дайте мне время, я буду во всём слушаться вас! Быть может, вы увидите во мне что-нибудь хорошее. Дайте мне время.
– Мне жаль вас, – сказала Верочка. – Я вижу искренность (Верочка, это вовсе не любовь, это смесь разной гадости с разной дрянью, – любовь не то; не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от неё отказ; но Верочка ещё не знает этого и растрогана). Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа, – извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не приведёт: я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.
– Заслужу, заслужу другой ответ, вы спасаете меня!
Он схватил её руку и стал целовать.
Мария Алексеевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей, но Сторешников разбил половину её радости, объяснив ей, что Вера Павловна хотя и не согласилась, но и не отказалась, а отложила ответ. Плохо, но всё-таки хорошо, сравнительно с тем, что было.
Мария Алексеевна решительно не знала, что и думать о Верочке. Дочь как будто говорила и поступала против материнских намерений, но выходило, что достигала большего, чем предполагала мать. Что она медлит с ответом, это понятно: хочет совершенно вышколить жениха – так, чтобы он без неё и дохнуть не смел. Очевидно, она хитрее самой Марии Алексеевны.
А как же быть, если это не так, если дочь действительно не хочет идти замуж за Сторешникова?.. По всей вероятности, негодная Верка не хочет выходить замуж – здравый смысл был слишком силён в Марии Александровне, чтобы обольщаться своими раздумьями о дочери как хитрой интриганке. Но эта девчонка устраивала всё так, что если выйдет (о чёрт её знает, что у неё на уме, может быть и это), то действительно уже будет полной госпожой над мужем.
Что ж, остаётся ждать. Ждать и смотреть – больше ничего нельзя. Теперь Верка не хочет, а попривыкнет, войдёт во вкус распоряжаться мужем… Только бы никакой вертопрах голову ей не вскружил. Надо усилить военную блокаду.
Шло время. Сторешников каждую неделю приносил угощения, но не смел отдавать Верочке, а передавал Марии Алексеевне. Иногда он ходил с Верой в театр, но Вера Павловна не разрешала никакого шика: пломбир, стакан лимонада, пирожное, о ресторанах не позволяла и заикаться.
Без Михаила Ивановича Верочка почти никуда не ходила, и её оставили в покое. Родители с надеждой смотрели ей в глаза. Эта собачья угодливость была ей гадка, она старалась как можно меньше быть с матерью. Мать перестала осмеливаться входит в её комнату, и когда Верочка сидела там, то есть почти круглый день, её не тревожили.
Грани человеческой жизни
Помнишь, читатель, как мы, попадая на Петровку, останавливались перед витриной, на которой были выставлены сделанные из лучшего оптического стекла геометрические тела? Каково было их практическое предназначение, нас не интересовало: мы смотрели на их изумительную прозрачность и переливы световых лучей. Пирамиды, призмы, конусы, октаэдры, цилиндры, и ещё бог весть какие тела играли вспышками, но сами дела оставались прозрачными и почти невидимыми.
Проницательный читатель уже поморщился: мол, автор сейчас начнёт философствовать, точно диккенсовская героиня, из каких граней состоит человеческая жизнь. Ну ладно, читатель, не буду философствовать, но скажу всё-таки, что жизнь человека многогранна.
Вспоминая хрустальные тела, я не просто хотел сказать, что вот из каких граней состоит человеческая жизнь, а потому, что жду от тебя (я тоже проницательный) упрёка в том, что я воскрешаю людей прошлого столетия. Что заменяю им сюртуки и кринолины пиджаками и ситцевыми платьями, графского управляющего делаю управдомом жэковских домов, графский титул заменяю служебным положением.
Но тут уж я не при чём. Они существуют, и такими их сделала жизнь. Существуют, несмотря на то, что прошло сто лет, что кринолины сменились ситцевыми платьями, что человек переменил личные занятия на службу, что полстолетия прошло при новой формации. Быт, нравы убеждения передаются по наследству от поколения к поколению. Что-то исчезло, что-то изменилось, что-то заменилось, но не всё. На геометрических хрустальных телах появились новые, более яркие оттенки, из сумрака они увидели свет. Всё зависит от того, какие лучи света упадут на грани и заставят их потускнеть или вспыхнуть новыми огнями. И очень хочется вынести эти кристаллы на яркий свет. Это время недалеко!
По-другому складывается судьба моих героев, потому что они находятся в иных условиях. Например, как в прежнее время оканчивалось подобное положение? Отличная девушка в скверном семействе, насильно навязываемый жених, пошлый человек, который ей не нравится, который сам по себе был дрянным человеком и становился чем дальше, тем дряннее. Но, держась подле неё, подчиняясь ей и понемногу становясь похожим на человека так себе, не хорошего и не дурного. Девушка начинала тем, что не пойдёт за него, но постепенно привыкала иметь его под своей командой. Убеждаясь, что из двух зол – такого мужа и такого семейства, как её родные, – муж зло меньшее, она осчастливливала своего поклонника. Сначала ей было гадко, когда она узнавала, что значит осчастливливать без любви; но муж был послушен, стерпится – слюбится. И она превращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама по себе и хороша, однако примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так было прежде с отличными девушками.
Почему же в наше время возможно (пусть в виде исключения) повторение подобных историй? Отвечу прямо: потому что первичной организацией общества осталась семья, и ей доверено формирование человека.
А комсомол? а партия? а…
Всё это есть. Их лучи преломляются в кристаллах человеческого сознания, но иногда на их пути встречаются светофильтры или даже плотные преграды.
Если бы не партия, не советская власть, то мне невозможно было бы писать роман о новых людях, на пути которых не стоит полиция, частная собственность, и др., и пр.
Условия стали другие, другими стали и люди. Некоторые из них сохранили ещё много старого, но появились и новые люди. Их круг шире, их задачи грандиозней, их возможности почти не ограничены, их призывы находят самые горячие отклики, их поиски не столь мучительны. Но пока эти новые люди являются новыми людьми, можно писать романы о таких людях и ставить вопрос: что делать?
Вот почему мы будем внимательно рассматривать жизненный путь почти каждого персонажа нашей повести и наблюдать, как в зависимости от условий и обстановки он менялся.
* * *
В воспитании Верочки главную роль играла мать. Почему же Вера Павловна не стала дубликатом Марии Алексеевны? Воспитывают не только моральными нравоучениями, а чаще всего наглядными примерами поступками, делами. Дети так любят подражать взрослым. Почему же у Верочки появлялось отвращение, когда подвыпившая мать доставала из рейтузов свёртки с продуктами? Почему ей не хотелось подражать? Да потому что книги, кино, школа, пионерорганизация научили её понимать, что такое подлость. Научили, но не дали тренировки.
Верочка знала и любила Павку Корчагина, но у неё-то не было никакой надежды попасть в будёновский отряд, на строительство железной дороги. Она любила и Зою, и Лизу, но войны нет, в плен её никто не возьмёт. Эти образы будили желания, но желания эти были бескрылыми. Вернее, не тренировали крыльев, хотя и звали к полёту.
Помнит Верочка, как её принимали в комсомол. Зачитали характеристику: учится старательно, заботится (на мамины средства) о своём всестороннем развитии, с коллективом класса дружит, в конфликты с товарищами не вступает.
Присутствующий на собрании партприкреплённый пенсионер Полозов с удивлением спросил:
– А плохие ученики в вашем классе есть: озорники, лодыри, мерзавчики всякие?
– Есть, – сказала Вера.
– Значит ты с ними дружишь и не вступаешь в конфликты? В наше время, прежде чем вступить в боевой отряд, надо было проявить боевой дух и «вступить в конфликты» со всеми, кто стоял на пути к переустройству общества.
Эта реплик вызвала неудобную заминку, и её поспешили замазать шаблонным набором слов.
– Вера Розальская показывает хороший пример своей учёбой и развитием. Мы надеемся, что она высоко будет держать звание комсомолки и с честью оправдает оказанное ей доверие. Кто за?
После собрания Вера дождалась Полозова и спросила:
– Что делать, если видишь рядом обнаглевшего негодяя, с которым ни учителя, ни администрация, ни даже милиция ничего сделать не могут?
– А разве деталями организации ваших взаимоотношений должны заниматься учителя и милиционеры? А вы хотите остаться белоручками? Значит, слабы ваши убеждения, если вы миритесь и оглядываетесь на милиционера. А где ваш активный протест? Противопоставление своей внутренней силы? Слаба душа у ерша, если у него щетинка дыбом не стоит. Я помню в «Комсомолии» Безыменского девушка-инвалид
По головам поленомбила бегущих мужчин.– Да попробуй свяжись с нашим Беляевым, потом вызовут к завучу, к директору, вызовут и родителей.
– Вот я и говорю, что в наше время проще было. Мы не просили прав, а сами брали их. С друзьями, пусть обманутыми друзьями, мы говорили по-дружески, но с врагами действовали бесцеремонно. Благородное негодование против подлеца – плохое оружие.
Когда Верочка одному подлецу дала пощёчину в присутствии всего класса, к завучу её не вызвали, а наглецы стали или побаиваться, или уважать её. Верочка чувствовала, что в её руки попал кончик нити, но распутать весь клубок человеческих отношений было ей не под силу. Почему не изучают в школе человековедение и всю запутанность человеческих отношений не приводят к общему знаменателю, к уравнению с неизвестными. А ведь учат же распутывать нагромождение и путаницу чисел, буквенных выражений и знаков.
Была у Верочки и практическая тренировка жизни, без которой она, возможно, не стала бы новым человеком и героиней этого романа.
На летние каникулы её каждый год отправляли к дяде – лесничему в Вологодской области. Эти три месяца в году были сами светлыми периодами её жизни. Если в городе её не допускали к домашней работе, то здесь всё было по-другому. Верочка прятала в чемодан все свои городские наряды, надевала коротенькую юбочку и майку. Она работала, не боясь солнышка, и превращалась в настоящую цыганку. С увлечением трудилась на огороде, ухаживала за скотом и домашней птицей, с материнской нежностью любил цыплят, утят, ягнят. Побаивалась лишь гусей. Дядя Петя разводил гусей только китайской породы, а эта строгая птица никому не позволяла вмешиваться в свой быт.
С тётей Настей Вера готовила пищу, стирала, научилась шить, вязать, плести кружева. В пасмурные дни приходилось сидеть дома, но скучно не было. Дядя Петя тачал сапоги, плёл сети или корзины. Тётя Настя сидела за шитьём или рукоделием, а Верочку просила почитать книги. Дядя Петя любил Сетон-Томпсона, Пришвина, Аксёнова и особенно Паустовского. Тётя Настя любила что-нибудь «житейское» и плакала над Русскими женщинами», «Оводом», а «Кому на Руси жить хорошо» могла слушать десятки раз, хотя целые главы знала наизусть. Её очаровывало это народно-былинное повествование с высокой художественной формой и глубокой идеей. А идею произведения, или, как она называла, «суть» тётя Настя никогда не упускала. Всё прочитанное подвергалось обсуждению: почему герой действовал так, а не иначе.
Сама тётя Настя была мастерица рассказывать былины, были, побывальщины, сказы и сказки. Верочка как зачарованная слушала сказы о книге Голубиной, о великом граде Китеже, о Соловье Будимировиче, о Волхове и Вадиме Храбром, о Рязаночке. Её волновала певучесть голоса сказительницы, музыка стиха, великие чувства народа и отдельных людей.
Про любовь Волховы мы сложили сказ,Про любовь её и про ненависть.Однажды Верочка прочитала вслух роман Гончарова «Обрыв». Симпатии тёти Насти были на стороне Кати и Марка, а Райского она презрительно называла боталом.
– Вот она любовь-то – что огонь. Знают, что сгорят, а тянутся друг к другу.
– Не рано ли, мать, ты девочке про любовь объясняешь?
– Про хорошую-то любовь? Никогда не рано! – убеждённо сказала тётя Настя.
Столько интересного и увлекательного видела Верочка, когда ездила с дядей Петей в лес, а в лесу он был как дома. Знал каждую нору, каждое дупло, знал, кто в них живёт и сколько детёнышей у белок, барсуков, лисиц. Знал каждую бочагу, где водились сомы и сазаны. Знал даже биографию и характер каждого лесного обитателя. То он узнавал, что барсучата осиротели и надо их поддержать кормом, то недоволен был, что выдра чересчур самовольничает и выселял её из норы при помощи запаха керосина. Никогда он не уставал любоваться лесом.
– Всю Землю человек перестроит, реки в прямые каналы превратит – нечего им петлять да озорничать; северные реки на юг повернёт, землю перепашет и засадит, горы перенесёт. А заповедные леса останутся.
Сколько интересных рассказов о животных, о птицах и рыбах переслушала Верочка!.. Эти рассказы казались ей интересней книжных, так как у каждого зверя был свой характер, похожий на человеческий.
Каждый год обмывалась здесь верочкина душа, каждый год накапливались самые прекрасные впечатления красоты, радости, счастья.
* * *
Случай, который изменил всю жизнь Веры Павловны, начался с того, что понадобилось подготовить по школьной программе долго болевшего маленького брата Верочки. Отец стал спрашивать у сослуживцев об учителе, который смог бы готовить по всем предметам (дешевле обойдётся). Архитектор порекомендовал ему своего практиканта Лопухова.
Впрочем, я забегаю вперёд. Забыл, что Лёня ещё бродит по свету.
Лопухов учится скупости
Да, скупости.
Расчётливости Лёня научился рано. С шести лет он был уже семейным экспедитором по снабжению хлебом и знал, что дважды два – бублик; что определённая комбинация монет – это определённый набор хлебных изделий. Попутно с заготовкой хлеба он узнавал, что есть в соседних магазинах и сообщал, что молоко пришло, бутылки принимают, поступили диетические яйца, а в магазине напротив есть говядина и расфасованный картофель.
Ещё в третьем классе школы его избрали заведующим кооперативом (он же продавец, кассир, бухгалтер и экспедитор). Дали ему 25 рублей основного капитала, и он снабжал весь класс тетрадями, карандашами, пёрышками, резинками – короче всем необходимым. Он скоро уяснил, что такое спрос и мёртвый капитал, что такое оборотные средства и накладные расходы. Узнал и раскованность кредита, как создаётся законная прибыль и возникают незаконные убытки: доверившись продавщице (старших надо уважать), купил сто тетрадей по 12 копеек, а получил десятикопеечные. В другой раз он проверил и обнаружил, что сверху и снизу лежат по пяти двенадцатикопеечных тетрадей, а между ними 90 штук десятикопеечных. Это стоил многих слёз, но авторитет старших померк, и он стал нигилистом. Торговые операции приучали к скрупулёзной расчётливости. Если ему говорили, что такая-то вещь стоит рубля два, он требовал уточнения: рубля два или два рубля. Потому что «рубля два» могло быть и рубль восемьдесят, и дав двадцать.
Цифры и числа приняли реальные формы.
Эту способность к реальности отвлечённого он перенёс и на учёбу.
Лопухов верил в преимущества социалистической системы хозяйства и сознавал условия, которые создаю эти преимущества. Ещё на втором курсе Тимирязевки он увлёкся статистикой, расчётами и оборотными средствами. Цифры волновали его больше, чем тексты статей, и к текстам статей он обязательно привлекал цифры. Но он не мог понять, почему, наши сельскохозяйственные успехи странным образом отстают от Канады и Германии, Швейцарии и Голландии, если перевести наши пуды в центнеры. Свои расчёты и перевернули всю жизнь Лопухова, он перестал верить тем знаниям, которые получил в институте. Или его расчёты антинаучны – или сама наука антипрактична. Он считал себя не вправе принять диплом и работу, если практические результаты его труда не покажут реального, разительного преимущества рекомендуемой им формы хозяйства. Он должен дать людям неопровержимую истину, как дважды два – четыре.
Надо было найти эту истину.
Он искал её сначала по всем факультетам, загружая себя знаниями, которые представляли огромный интерес, но не выдерживали числовой проверки. Эти знания, казались огромной и важной частью проблемы, но не самой истиной. Он искал истину в других науках и убеждался, что нужен комплекс знаний, но накопление знаний ещё не давало числового итога. Оставалось проверить практический опыт, объединить в оно целое с комплексом знаний и объединить в нечто новое – неоспоримое и наглядное.
И он пошёл на поиски истины.
Мы оставили Лопухова в положении бродяги без определённых занятий.
Его не тяготила такая жизнь, и он был даже доволен ей, потому что она делала его физически здоровым, чему он придавал огромное значение. Его не удовлетворяла физкультура, которая совершенствовала готовый материал. Кроме того, он овладевал многими навыками. А главное – он находил во многих колхозах и совхозах длягоценные частицы организации работы, которая давала удовлетворительные цифры при подсчётах. Но каждый раз это была опять-таки частица, а не сама истина. Инициатива, а не система.
Как объединить эти частицы он пока ещё не знал, но уже несколько общих тетрадей заполнил расчётами, справками, схемами. В своём рюкзаке он хранил несколько десятков отснятых плёнок. Всё это не вносило пока ясности, потому что цифры перемешивались с научными выводами и мнениями множества отдельных людей. «Вали валом – потом разберём!» – утешал он себя.
Эти богатства не поступали к нему непрерывно, а доставались иногда крупицами, иногда самородками в самых неожиданных местах. Иногда из крупных колхозов он уходил ни с чем, не записав ни одной строчки, а иногда с чабаном он проводил несколько дней, исписывая страницу за страницей.
Такой неожиданной находкой был баштанный шалаш и его обитатель – сторож Тодот Пантелеевич по прозвищу «Куркуль».
Солнце стояло в зените, когда Лопухов поравнялся с шалашом баштанного сторожа. Это напомнило об отдыхе и обеде.
Перед шалашом лежал, подперев седую бороду, сторож баштана. Он невозмутимо равнодушно смотрел на красоту широкой степи и на незнакомого юношу.
– Добрый день, дидуся! – сказал Лопухов.
– Добрый день, хлопче, – в тон ему ответил сторож, однако не удостаивая его вниманием.
– Позвольте отдохнуть у вас и пообедать, если найдётся вода.
– В добрый час пришёл: каша готова и кавун остужен, пообедаем вместе.
– Так может в кашу вместится вот эта банка свиной тушонки?
– Ну что ж, хоть вона и со шкварками, да мабуть не зажуем страву.
Сторож расстелил рядно, нарезал серого душистого хлеба, подал глиняные миски и принёс кашу. Ели молча. Добросовестно зачистили котелок, съели колбасы с огурцами, съели кровяно-красный арбуз.
Дед закурил трубку, а Лёня вытянулся на земле. Всё это делалось молча. Наконец Лёня, желая завязать разговор, спросил:
– Как дела, дидуся?
– Та яки у меня дела? Дела у секретаря сильрады в шкафу, та у головы колгоску в портфеле, а моё дело ти люльку смоктать.
– А ты, хлопче, куда идёшь и прямуешь? Чи дело шукаешь, чи от дела летаешь?
– Дело ищу, дидуся.
– Так оно ж на нашем колхозном дворе уже третий день. Погода золотая, а тут молотилка испортилась, – сказал старик с лукавой улыбкой, посматривая на набор инструментов, – мабуть ты приладдя носишь, щоб консервные банки открывать?
– Нет, дидуся, то дело, что на колхозном дворе стояло, я помог сделать. Сегодня с утра работает молотилка.
– А с далёка ли ты до этого дела пришёл?
– Из Москвы, дидуся.
– Стоило, хлопче, даже чоботов не жалко. Теперь куда идёшь? Кажется, во всей округе молотилки справные.
– Скажу, дидуся, если смеяться не будете.
– С посмиху люди бегают. Разве плохо, когда человек смеётся?
– Над чужой печалью не следовало бы смеяться.
– А если вместо болячки коровий навоз присох, как не посмеяться?
– Я студент Тимирязевской академии, где люди на агрономов учатся. Проучился я четыре года, а не увидел настоящей науки – такой, чтобы с это баштана в десять раз больше собрать. Вот и пришёл посмотреть, как у людей дела идут. Сто пудов с гектара собрать – не стоит учиться.
Старик молча выколотил трубку, старательно подыскал в кровле шалаша надёжную былинку, старательно прочистил чубук, подул в него, сунул в карман, а всё не торопился с ответом. Наконец сказал:
– Ты, хлопче, на старую болячку мне наступил. Думал, что загноило, аж свербит. Если серьёзно тебе сказать, то не с того конца ты за дело берёшься. С этого баштана ты в десять раз не соберёшь. Посеян он по всем правилам науки и практики. Даёт колхозу тысяч пять чистой прибыли. А я тебе скажу, что с него на милиён собрать можно. Милиён – это я тебе не шутя говорю.
– А как это сделать, дидуся? – с горящими глазами, взволнованно спросил Лёня.
– Выбачай, если я не по-учёному буду говорить, по-простому. Не буду писать крючки да палочки, а скажу, як дело було. О том, что своими руками держал, своими очами бачил. Выбачай, если моё оповидання тебе куркульским покажется, ведь мне и прозвище Куркуль. Так или не так, оправдываться не буду. Десять лет я отбыл в лагерях, молчать научился, но убеждения у меня так и остались куркульскими.
– Расскажи, дидуся, только всё подробно.
– Значит, не торопишься уходить?
– Нет. Может, я за этим разговором весь путь прошёл.
– Ну добре, слушай.
В ерманскую забрали меня на фронт, да воевать почти не пришлось. После тяжёлого перехода через Карпаты всех нас, как баранов, забрали в плен. В лагере тоже долго сидеть не пришлось. Отправили меня к бауэру в батраки. Ну, мне и плен перестал казаться пленом, на родной-то батьковщине тяжче пришлось працювать на пана. Работа в меру, а еда вволю – чего ещё надо? А тут ещё интерес у меня к хозяйству появился, – уж больно мне всё удивительным показалось: земля – супес, по сравнению с нашим шварцэрденом4 доброго слова не стоит, и имение-то небольшое, а урожай собирают неплохой, скота держа много, и всё у них как-то ладно получается. Стал я присматриваться к хозяйству, во всё вникать. Четыре года эта академия продолжалась, и надо сказать, что наука-то не в лес пошла, а в голову.
Вернулся я на родину в 1922 году. Два мои брата тоже отвоевались, домой пришли. Домой-то пришли, а дома нет – груда углей да головешек. Сделали землянку и поселились все вместе. Отец нам велел держаться друг за друга. Ну что ж, хлопцы мы были здоровые, руки-ноги целые, отец-старик тоже бревно с комля брал. Землянку нашу с хоромами сравнить нельзя было, да мы и не собирались в ней век жить и знали, что из неё потом хороший омшанник получится.