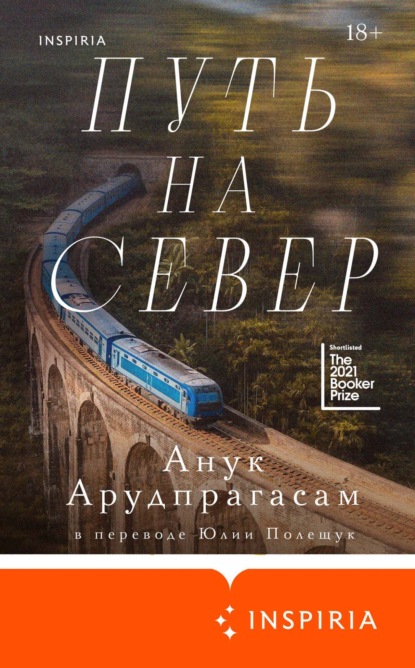Полная версия
Птица скорби
Вдруг за спиной раздаётся голос мамы:
– Что ты тут делаешь, Чичи?
– Да так. Мы с Бо Шитали ждём, когда пиджак высохнет. – Я специально говорю громко, чтобы предостеречь Бо Шитали. Та притворно сопротивляется, пока Бо Хамфри хватает её за руку, притягивает к себе и целует в губы. А ещё он что-то ей передал. Я вежливо опускаю голову, чтобы не подсматривать. Ведь это почти как поцелуй Ракель и Антонио в сериале «Никто, кроме тебя»[19], что крутят по нашему местному каналу. Через минуту Бо Шитали возвращается ко мне, таинственно улыбаясь. Ещё какое-то время мы сидим на ступеньках, и я рассказываю ей про свою школу. Мама уже вернулась в гостиную, прикрыв за собой дверь.
Я рассказываю Бо Шитали, что наша новая училка мисс Чама так жирно красит губы красной помадой, что у неё даже зубы в ней измазаны. От этого кажется, словно она объелась помидоров. А ещё сегодня на перемене мы бегали по футбольному полю, которое давно пора покосить. Я потеряла туфлю, и из-за этого мы с Луизой опоздали на следующий урок. А ещё Луиза помогает маме торговать на базаре фриттерами[20], но это после уроков, конечно. Может, потому она такая полненькая, что всё время что-то жуёт. Потом, сморщив носик, я задаю Бо Шитали очень важный вопрос – выйдет ли она замуж за Бо Хамфри.
– Да, – уверенно отвечает девушка.
– А можно я буду девочкой с букетом?
– Можно. – Бо Шитали довольно улыбается.
– Ура. Значит, я буду танцевать на твоей свадьбе? Пусть Тате купит мне новое платье. – Я уже рисую в своём воображении пышные рукава и кружева на подоле.
– Только пока, чур, это будет наш секрет, хорошо? – говорит Бо Шитали. Дует майский ветерок, и длинные чёрные волосы девушки падают ей на лицо.
Запели сверчки.
Секрет? Обожаю секреты!
Глава 3
Устроившись на полу в гостиной, мы с мамой обрываем тыквенные листья, как вдруг Куфе поднимается на ножки, придерживаясь за стул, и топает к нам через комнату. Это его первые шаги. Давно пора, как сказала бы наша соседка Бана Муленга. Дёрнув маму за край читенге, я киваю на брата. Тот держит в маленькой ручонке пойманного таракана и пытается засунуть его в рот, а бедное насекомое отчаянно шевелит всеми шестью лапками. Оторвавшись от работы, мама вскрикивает, Куфе пугается и падает на попу. После этого весь день мамины глаза смеялись от счастья. Она подманивала к себе Куфе подслащённой водой, конфетой, варёным яйцом или игрушечной машинкой. Куфе поднимался на ноги, делал несколько шагов и падал, но мама и этому радовалась и хлопала в ладоши. Помнится, это было воскресенье, но Тате куда-то ушёл, а Али гулял, так что оба они пропустили этот торжественный момент. Мама позвала Али, и тот вбежал в комнату, ступая грязными ногами по бетонному полу, отполированному до блеска красной мастикой. Но мама не стала ругаться. Она даже забыла, что повздорила со своей лучшей подругой, нашей соседкой Бана Муленгой, – вышла во двор и позвала её. Та выглянула из-за забора, на её худом лице было написано любопытство.
– Мукваи?[21] – спросила она.
– Куфе ваенда![22] – воскликнула на тонга[23] мама и захлопала в ладоши.
– Охо, – только и сказала Бана Муленга.
– Но ведь это же здорово, разве нет? – с обидой сказала мама.
– Да, чавама[24], но я тебе давно говорила, что он отстаёт в развитии. Вон мой Бупе уже бегает как очумелый, ка?[25] – Снисходительно улыбнувшись, Бана Муленга прибавила: – Но лучше так, чем если б он вообще не пошёл.
Погрустнев, мама что-то забормотала себе под нос и вернулась в дом.
– Всё равно хорошо, даже очень хорошо, – упрямо сказала она. – Куфе, завтра понесу тебя на контрольный осмотр.
Подхватив сына, она прижала его к себе, ласково приговаривая, а после обеда отправилась с ним в церковь на библейские чтения и всю дорогу распевала гимны про Христа.
В тот день Тате вернулся ровно в семь, когда мелодичный голос дикторши объявил: «Приветствуем вас на национальном канале телевещания вечерним выпуском новостей». Пьяно пошатываясь, Тате прошёл в гостиную, устроившись в своём персональном кресле. На нём его любимые выбеленные джинсы и застиранная белая футболка с надписью: «Время пришло», а под ней – маленький логотип ДМД[26]. Я подбежала к Тате, чтобы стащить с его ног ботинки. Они были кожаные, но старые и потому малость воняли от долгой носки. Впрочем, это ничто по сравнению с исходившим от него запахом перегара.
Оказывается, вернулась и мама, разминулась с папой буквально на пару минут.
– А где Шитали? – поинтересовалась мама. – Я гляжу, она даже не удосужилась приготовить ужин. – Мама занервничала и опять взялась расковыривать кожу вокруг ногтей.
– Шитали прилегла, – сказала я, замерев с папиными ботинками в руках.
– Как, опять? – Если б не Тате, мама обязательно бы прибавила: «Что за ленивая девчонка».
На такие мамины слова я неопределённо пожала плечами.
Мама поставила Куфе на пол, и я поманила его к себе.
– Тате, гляди, что Куфе умеет! – сказала я, но братик сел на попу и пополз.
– Что? – спросил Тате, не поднимая головы.
Тогда мама поманила Куфе, надеясь, что он поднимется на ноги, но малыш просто развернулся и пополз в её сторону. Мамины щёки запунцовели от досады: подхватив сына, она отправилась будить Бо Шитали. Через несколько минут обе они скрылись на кухне. Папа остался один перед телевизором.
Подхватив плетёную корзину лубанго с листьями тыквы, я поставила её на крышу для просушки, а потом мы уселись ужинать. Маисовая каша с простоквашей была любимым блюдом Бо Шитали, но сегодня она поменялась ролями с моим младшим братом: Куфе наворачивал за обе щёки, а Бо Шитали даже к ней не притронулась. Али тоже не страдал плохим аппетитом, а я трещала без умолку, стараясь развеселить Тате. Наверное, он устал от моей болтовни, потому что молча поднялся и вышел из столовой, обдав нас парами алкоголя. И, как назло, в этот же самый момент Куфе сполз с маминых коленей и затопал по комнате.
На следующий день, третьего июля 1995 года, Куфе исполнялось два годика. Страна праздновала День народного единства, Тате был на работе, а мне предстояло сопровождать маму в больницу для ежемесячного обследования Куфе. Все выходные Бо Шитали нездоровилось, но в понедельник она встала пораньше, натёрла полы мастикой и отполировала их. Мама всё же побоялась брать с собой Бо Шитали, и правильно сделала. Потому что я видела, как её стошнило за домом. Я ещё тогда подумала, что секретов у меня прибавилось.
Я тащила за мамой пакет с подгузниками и питьём для Куфе, по дороге развлекая себя чтением вывесок. Прохожие удивлённо оборачивались – ведь в Лусаке далеко не каждый ребёнок ходит в школу. Чтобы попасть из Нортмида в Чипата[27], где и располагалась ближайшая больница, нужно идти через район Гарденс. Увы, этот маршрут точно совпадал с течением сточных вод, так что второй моей заботой было не свалиться в узкую канаву с зелёной жижей.
Вот мы и пришли. За бетонным забором – ряд приземистых зданий, на входе – металлическая табличка: «Больница Чипата. Министерство здравоохранения Замбии». Рядом на дереве кто-то прилепил бумажку: «Сделайте пожертвование и получите благословение».
Мы входим через ворота на территорию больницы и видим длинную очередь в детскую поликлинику, которая перед дверьми разделяется надвое – для грудничков и для детей до пяти лет. Таких, как Куфе, гораздо больше, и я понимаю, что ради мамы придётся набраться терпения и не ныть – она и без того куксится, словно объелась импвы[28]. Очередь понемногу двигается, я слоняюсь меж деревьев и читаю вслух объявления, иногда отступая в сторону, чтобы пропустить медсестёр в белых халатах и туфлях на плоской подошве.
Наконец мама зовёт меня, и мы заходим в поликлинику. Прежде чем попасть на приём, нужно взвесить ребёнка на допотопных весах с гирьками. Дети маленькие, балуются, им хочется всё потрогать, и медбрат уже замучился с ними справляться.
– Пять килограммов, – объявляет он. – Ваш – шесть килограммов. – Каждой мамаше он вручает бумажку о прохождении взвешивания.
В комнате стоит ужасный гвалт – дети плачут, мамаши срываются на них, но медбрат продолжает делать свою работу:
– Десять килограммов. Пятнадцать. Двенадцать.
Потные детские лица блестят, словно навазелиненные, и я отмечаю про себя, что на фоне остальных Куфе выглядит самым мелким и болезненным. Медбрат, сам пухленький, как ребёнок, продолжает взвешивать детей, мамаши довольно кивают и отходят в сторону. Лицо моей мамы покрывается красными пятнами – она переживает за Куфе, который для неё, конечно же, лучше всех. Она рассеянно улыбается и ждёт своей очереди. Я кручу головой – тут все стены обклеены плакатами. На одном – только слова: «По внешнему виду диагноз не определить». На втором – худая и полная женщины держатся за руки, и надпись над полненькой: «Это Мусонда, она ВИЧ-инфицированная». На третьем – картинка со счастливой матерью и младенцем: «Грудное вскармливание очень полезно для вашего ребёнка». На четвёртом изображён человек, которого тошнит: «Симптомы холеры – диарея, тошнота, рвота, обезвоживание».
Может, у Куфе холера? И у Бо Шитали тоже?
Наша очередь. Мама ставит Куфе на весы и замирает в ожидании. Куфе кряхтит и усаживается на платформу, подобрав ноги. Немного покачавшись, платформа приходит в равновесие благодаря передвигаемым гирькам. Нахмурившись, медбрат спрашивает:
– Восемь килограммов? Сколько ему?
– Два годика, – говорит мама. Она опять расковыряла до крови очередной палец и поспешно вытирает его о читенге.
– Хорошо, мадам, подойдите вон к тому столу и сообщите вес вашего ребёнка.
Мама берёт у медбрата бумажку, подхватывает Куфе и шагает по коридору. На лице её написано упрямое выражение, за которым скрывается тревога. Напоминание о том, что Куфе слишком слабенький, больно ранит её. Она и в церкви так реагирует, когда ей говорят. Я тоже волнуюсь за Куфе, но боюсь говорить об этом вслух, чтобы мама меня не отшлёпала.
Мама присаживается за стол напротив трёх медсестёр: в полумраке комнаты их белые халаты сияют, как три факела. Одна медсестра что-то пишет в журнале, вторая берёт у мамы зелёную карточку, медицинский полис Куфе. Я подхожу ближе, но строгим взглядом мама велит мне удалиться.
На улице прохладно, но яркое солнце заставляет сиять всё вокруг. В ворота входит молодая женщина: за спиной у неё в слинге из ярко-жёлтого читенге — ребёнок, мальчик, который по возрасту вполне мог бы идти и сам, если б не был болен. Ноги мальчика безжизненно волочатся по земле, женщина идёт и тихо плачет. Потрясённая, я гляжу ей вслед: вижу её сгорбленную спину и плечи, что сотрясаются от рыданий.
Двое мужчин катят перед собой старую тачку, в которой лежит иссохший, как тень, человек – кожа обвисла, ветер перебирает его жидкие дымчато-чёрные волосы. Вот тачка наехала на камень, и из иссохших губ человека-тени вырывается басовитый стон. Только так можно понять, что это мужчина. Но два его родственника очень спешат, им срочно нужно довезти этого немощного человека до врачей, поэтому они катят тачку как могут, не обращая внимания на его стенания. В смятении я отвожу глаза, но тут, в какую сторону ни погляди, везде сплошное горе. Взгляд мой падает на окно, и я вижу маленькую девочку. Она сидит на полу в коридоре, она очень бледна, насколько только может быть бледна маленькая африканка. Её чёрные глаза буквально прожигают меня насквозь. Девочка жуёт хлебную корку, и я вижу, что её красный язык и слизистая рта изъедены язвами. Чем она больна? Я не знаю. Беспокойно переминаясь с ноги на ногу, я отворачиваюсь, и мой взгляд снова наталкивается на беднягу в тачке – его злоключения ещё не закончились. Мужчины наконец выяснили у двух медсестёр, куда им обратиться, и уверенно катят тележку в сторону белого корпуса. Медсёстры входят в здание детской поликлиники, и я вижу через окно, как они переступают через сидящую на полу девочку и идут дальше. Я начинаю считать их шаги: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, сем… Я стою возле дверей поликлиники, ожидая, когда меня позовёт мама. Порыв ветра доносит до меня резкий запах хлорки. Я думаю обо всём, что увидела, и тут слышу сердитый мамин голос:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Спасибо! (тонг.) (Здесь и далее – прим. переводчика.)
2
Тате – «отец» на языке лози. В дальнейшем используются слова и фразы языков банту (в основном лози, тонга, ньянджа).
3
Нортмид – район в г. Лусака – столице Замбии.
4
Как дела? (ньянджа)
5
Всё хорошо (ньянджа).
6
Читенге («завязывать») – отрез ткани с этническим принтом, нанесённым в технике батик. Читенге может использоваться как предмет одежды (чаще всего – юбка) и как слинг для младенцев.
7
Мукуле – узорчатая афропричёска из косичек.
8
Отец Чимуки – пьяница.
9
Ншима – масса из кукурузной муки для приготовления клёцок.
10
Тиляпия – рыба, похожая на карпа.
11
Междометие, выражающее неодобрение (ньянджа).
12
Налоло – район в Западной провинции.
13
Вежливое обращение, предполагающее старшинство.
14
Матеро – район Лусаки.
15
Ну да, конечно (ньянджа).
16
Бьюти – от англ. beauty – красотка.
17
Черепаха. Здесь: неуклюжий.
18
Киншаса – столица Республики Заир.
19
«Никто, кроме тебя» – мексиканский сериал конца 1980-х гг.
20
Фриттеры – кулинарные изделия из жареного жидкого теста с начинкой.
21
Что случилось? (ньянджа)
22
Куфе пошёл.
23
Тонга – один из языков, на котором говорят в Замбии. Таковых семь по разным провинциям: бемба, ньянджа, лози, тонга, каонде, лувале, лунда. Официальным языком считается английский.
24
Счастливый (-ая).
25
Междометие для усиления высказывания (ньянджа).
26
ДМД (MMD, The Movement for Multi-party Democracу) – партия «Движение за многопартийную демократию», имела парламентское большинство в 1991–2001 гг.
27
Чипата – район Лусаки.
28
Импва – разновидность баклажанов.