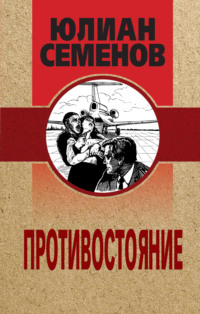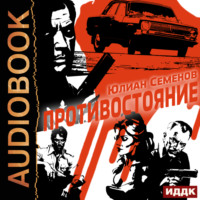Полная версия
Полковник милиции Владислав Костенко. Книга 4. Репортер

Юлиан Семенов
Репортер
Полковник милиции Владислав Костенко. Книга 4
© Семенов Юлиан (наследники)
© ИДДК
* * *I
Я, Иван Варравин
Газета легко дала мне эту командировку, оттого что письмо было поразительное:
Молодые друзья! Я обращаюсь к вам, в комсомольскую прессу, после того, как отправил в Москву заявление: «Прошу освободить меня от должности Председателя Совета Министров нашей автономной республики и – одновременно – отозвать из Верховного Совета».
Я поступил так не потому, что чувствую за собою какую-то вину. Все проще: талантливый человек, которого я поддерживал, сидит в тюрьме по обвинению в особо крупных хищениях. Так как я еще не получил ответа на мое обращение, хотел бы встретиться с молодым журналистом и порассуждать вместе с ним о житье-бытье, покуда в моих руках находятся необходимые архивы. После этого журналисту следует обратиться в прокуратуру, а уж потом – в колонию, где отбывает срок Василий Пантелеевич Горенков. В его деле, как в капле воды, отражаются проблемы нашей сегодняшней жизни.
С уважением,
Каримов Рустем Исламович.…С трудом протолкавшись сквозь аэрофлотовский тоннель, что ведет на посадочную площадку (как же мы умеем организовывать очереди!), я устроился возле иллюминатора. Нет большего счастья, чем наблюдать взлет, ощущая таинственность мгновенья отрыва огромной махины от бетона и переход людской общности в новое, небесное состояние, которое несколько десятилетий тому назад казалось утопией, несмотря на то, что еще в прошлом веке Жюль Верн старался такого рода сказку представить своим читателям вполне возможной былью…
Однажды моя подружка по газете Лиза Нарышкина выискала у Лескова поразительный пассаж о том, что Писемский литературное оскудение прежде всего связывал с размножением железных дорог, которые полезны торговле, но для художественной литературы вредны.
Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, замечал Писемский, и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда – все скользит. А бывало, как едешь в Москву на «долгих» в общем тарантасе, да ямщик тебе попадет подлец, и соседи нахалы, и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься! А еще как сердце не вытерпит – изловишь какую-нибудь гадость во щах, – да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ вдесятеро иссрамит, так от впечатлений просто и не отделаешься… И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по-железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай, ешь, – пожевать некогда; динь-динь-динь – и готово, опять едешь, и только у тебя всех впечатлений, что лакей сдачей обсчитал…
Лесков на это приводил в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудностию содержания.
Сто лет как прошло, подумал я, а давешние споры не кончены: оренбургское литературное объединение бранит столичное – мол, не расстилаются перед изначалием, а ведь только через него можно сделаться писателем! Москвичи изучают теперь лишь Пастернака с Гумилевым да Мандельштама, перед классикой не немеют – стыд и позор! Странное мы сообщество, право! Постоянно боремся за единообразие, непременно хотим, чтобы лишь наше мнение сделалось всеобщим: я – прав, остальные – дурни или того хуже. Триста лет ига сменились тремястами годами собственного крепостничества. Многие у нас ныне сердятся, когда крепостничество называют рабством, мол, «клевета на народ», ан, увы, не клевета, а факт истории. Замалчивать историю то же, что лгать больному или туберкулезника лечить от простуды. Неосознанное предательство так же опасно, как и заранее спланированное. Да и четверть века – с двадцать восьмого по пятьдесят третий – тоже даром не прошли, родился стереотип нового страха, надежда лишь на того, кто все знает, все понимает и все умеет, ощущение собственной малости и незащищенности, разве такое можно оставлять вне исследования? Масоны – масонами, а история – историей: владелец типографии Новиков, брошенный матушкой Екатериною в каземат, был обвинен в масонстве, но против чего он выступал? Против самодержавия, за свободу мужику.
…Между прочим, отчего при полете в Варшаву – а это всего два часа – курить в салоне разрешается, а когда пилишь в Сибирь шесть часов, не моги?.. Салтыков-Щедрин? «Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец»?
Я дождался, когда погасло табло, самолет пробил дождевые облака, распластался над белым туманом и словно бы остановился, набрав девятисоткилометровую скорость. Расстегнув свою сумку – чудо что за сумка, можно слона затолкать, – я достал конспекты и принялся – в который уже раз – систематизировать выписки.
Честно говоря, я не знаю, что у меня получится из того, что уже сделано: во всяком случае, методологически я сопряг эпизоды нашей экономической бестолковщины (а может, осознанного саботажа) с тем, что писал в свой последний год Ленин: «Всячески и во что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него у нас поставлены (экспроприацией помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-крестьянской властью в политике) достаточно узкие, достаточно “умеренные”».
Словно бы ожидая возражений со стороны догматиков, Ленин идет дальше: «Нам надо не бояться признать, что… еще многому можно и должно поучиться у капиталиста».
Или: «Система смешанных обществ есть единственная система, которая действительно в состоянии улучшить плохой аппарат Наркомвнешторга, ибо при этой системе работают рядом и заграничный, и русский купец. Если мы не сумеем даже при этих условиях подучиться и научиться, и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ дураков».
Из плана брошюры о продналоге: «Свобода торговли для: а) развития производительных сил, б) для развития местной промышленности, в) для борьбы с бюрократизмом…»
То есть, выходит, личная инициатива противополагалась Лениным бюрократии? Значит, он искал экономические формы борьбы против нее, понимая, какая это страшная угроза для революции?
«Советские законы очень хороши, – пишет он далее, – потому что предоставляют все возможности бороться с бюрократизмом и волокитой, возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину. А что – пользуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин, громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или таким истинно русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этими явлениями? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив! Законов написано сколько угодно! Почему же нет успехов в этой борьбе? Потому, что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, если только сама народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться».
И – резко: «Мы живем в море беззаконности… Общий итог: местная бюрократия – есть худшее средостение между трудящимся народом и властью».
Как посыл для размышления – вопрос и вывод: «Каковы экономические корни бюрократизма?.. Раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью…»
А затем – о культуре: «От всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами (1897 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях “пролетарской культуры”. Это показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы… Мы не заботимся или далеко не достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре: ни о пролетарской, ни даже о буржуазной».
А когда мы прибавили жалованья учителям? Лишь когда поняли, что эта профессия стала непрестижной. Только неудачники шли в пединституты, те, кто не смог попасть в другой вуз, а ведь именно в руках учителей – моральное здоровье народа, особенно если матери работают наравне с отцами. В течение более чем шестидесятилетия народный учитель получал месячный оклад, на который нельзя купить даже пару хороших зимних сапог, а уж о создании личной библиотеки и думать нечего – цена хорошей книги на черном рынке известна. Что же происходило? Головотяпское забвение ленинского наказа? Или осознанная ставка на торможение знаний? Значительно легче приказно управлять человеком, знающим лишь азбуку и навык счета. Лишь ученик, воспитанный эрудированным педагогом, может, более того, обязан спрашивать! А кто был в состоянии – в недавнем еще прошлом – ответить на вопросы культурной, подготовленной личности?
Но не только это забыли у Ленина. Никто серьезно не проанализировал его работу о Рабоче-крестьянской инспекции, в которой он, в частности, предлагал резко сократить штаты наркома Сталина: многочисленные контролеры-инспекторы подрывают – по Ленину – «всякую работу по установлению законности и минимальной культурности».
Ленин был намерен вынести вопрос о Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции (штаты разбухли, права неограниченны) на съезд партии… Не успел. Другие – не захотели или не смогли…
…Не очень-то мы анализировали национальную проблему, скорее даже поступали в пику Ленину, словно бы ему назло. А ведь он писал в последних работах: «Мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того – незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, – стоит только припомнить мои волжские воспоминания, как у нас третируют инородцев… Тот грузин[1], который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в “социал-национализме” (тогда как он сам является настоящим и истинным не только “социал-националом”, но и грубым “великорусским держимордой”), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развития и упрочения пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки “обиженные” националы, как к чувству равенства и нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки…»
…Я начал снова и снова перечитывать последние ленинские тома после того, как наткнулся на стенографические записи его секретарей. Эти документы потрясли меня, сам по себе напрашивался вывод, что те месяцы, когда больной Ильич лежал в Горках, оказались временем его самой напряженной политической борьбы. Силы, увы, были неравные: он – болен, противники – полны силы.
Вспомним запись секретаря Ленина; сделана тридцатого января двадцать второго года:
24 января:
Владимир Ильич вызвал Фотиеву и дал поручение запросить у Дзержинского или Сталина материал комиссии по грузинскому вопросу и детально их изучить. Поручение это дано Фотиевой, Гляссер и Горбунову[2]. Цель – доклад Владимиру Ильичу, которому это требуется для партийного съезда. О том, что доклад стоит в Политбюро, он, по-видимому, не знал. Он сказал: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об “инциденте”, и это на меня очень тяжко повлияло…» В субботу спросила Дзержинского, он сказал, что материалы у Сталина. Послала письмо Сталину, его не оказалось в Москве.
Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может. Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, отчего он в курсе текущих дел? Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства…
1 февраля (запись Л. А. Фотиевой):
Сообщила, что Политбюро разрешило материалы получить… Владимир Ильич сказал: «Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы я был на свободе), то я легко бы все это сделал сам.»…
9 февраля (запись Л. А. Фотиевой):
Утром вызвал Владимир Ильич. Подтвердил, что вопрос о Рабоче-крестьянской инспекции он вынесет на съезд…
12 февраля (запись Л. А. Фотиевой):
Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер[3] накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну вот, например, Вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал инструкции врачам.
5 марта (запись М. А. Володичевой):
Владимир Ильич вызвал около двенадцати. Просил записать два письма: одно – Троцкому, другое – Сталину…
Первое письмо начиналось так: «Уважаемый тов. Троцкий! Я просил бы Вас взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии…» Троцкий ответил отказом: «болен».
Второе письмо было резким, яростным даже: «Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен так легко забывать то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения…»
(Еще в декабре двадцать второго, когда Ленин продиктовал письмо Троцкому с просьбой поддержать его в борьбе против Сталина за сохранение монополии внешней торговли, Сталин, на которого, как на Генерального секретаря ЦК, была возложена личная ответственность за соблюдение режима лечения Ленина, позвонил Крупской и, обругав ее, угрожал разбором дела на Контрольной комиссии. Крупская написала письмо Каменеву: «Лев Борисович… Я в партии не один день. За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова… Интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину… О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина… В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я бы могла тратить на эту глупую склоку».)
…Когда проанализируешь аппарат ленинского Собрания сочинений, то становится ясным следующее: первый серьезный приступ болезни случился после длительной борьбы Ленина против некоторых членов Политбюро ЦК, настаивавших на отмене монополии внешней торговли, и конфликта в Тбилиси между Закавказским крайкомом и группой грузинских большевиков во главе с Мдивани и Махарадзе: двенадцатого декабря 1922 года Ленин долго беседовал со своим заместителем Рыковым, Каменевым и Цюрупой о распределении между ними обязанностей по Совету Народных Комиссаров, с Дзержинским обсуждал положение в Тбилиси, с торговым представителем в Германии Стомоняковым Б. говорил о монополии внешней торговли. А на следующий день, тринадцатого декабря, наступил кризис. Тем не менее, несмотря на запрет врачей, Ленин писал письма Троцкому (его союзнику по борьбе за монополию внешней торговли) и Сталину (противнику). Шестнадцатого декабря в состоянии его здоровья наметилось еще более серьезное ухудшение, паралич правой руки и ноги. Понимая, что ситуация тревожная, Ленин начинает диктовать «Письмо съезду», требуя, в частности, сменить Сталина на посту генерального секретаря. Декабрь, январь, февраль и март двадцать третьего он работает практически каждый день, после того как он узнал о подробностях инцидента в Тбилиси, когда Троцкий пренебрежительно отказал ему в поддержке против Сталина. Прослушав о вопиющей бестактности Сталина по отношению к Крупской, Ленин теряет речь, из последних сил тренируется, чтобы научиться писать левой рукой. Двадцатого января двадцать четвертого Надежда Константиновна читает Ильичу резолюции тринадцатой партконференции. По воспоминаниям Крупской, слушая ее, он стал волноваться, назавтра его не стало. Какая строка резолюции насторожила Ленина? В чем он заметил то – особенно тревожное, – что проецировал на будущее? Если удастся найти историков, влюбленных в математику, и математиков, живущих историей, такой союз, закрепленный логикой компьютера, сможет дать ответ – хотя бы приблизительный – на этот вопрос…
Заново изучив те проблемы, которыми занимался Ленин перед тем, как болезнь свалила его, я снова и снова думаю: все ли должен был обсуждать Ильич из того, что выносилось на повестку дня? К примеру, семнадцатого ноября двадцать второго года заседание Совета Труда и Обороны. Повестка дня: урегулирование цен, передача десяти тракторов управлению мелиорации на Мугани, конкретные мероприятия в связи с реализацией урожая… Восемнадцатого ноября: беседа с делегатами конгресса Профсоюзного Интернационала, поручения Горбунову: прислать доклад о работе Мичурина, передать предписание Кржижановскому войти в СТО с докладом об ирригационной системе в Туркестане, послать запрос Серебровскому о нефтяной концессии. Назавтра – беседа с заместителем председателя Высшего совета народного хозяйства Смилгой о введении хозяйственного расчета в промышленности. Двадцать первое: председательствует на заседании Совнаркома, несколько раз выступает по поводу пересмотра Положения о Главном концессионном комитете, обсуждается проект о Центральном Комитете по перевозкам, вопросы о пропаганде на восточных языках, о финансировании Гидроторфа, об учреждении сметы Наркомсобеса. За неделю перед болезнью участвует в заседании Политбюро, вносит дополнение к проекту постановления по докладу комиссии Госснабжения и поправки в проект постановления о взаимоотношениях между наркомом просвещения и его заместителями. Дебатируются вопросы о конференции по разоружению, об экспорте хлеба, о сельхозкредите, о фонде заработной платы на декабрь двадцать второго года, о слиянии аппаратов Наркомпрода и Наркомфина, о посылке инженеров за границу…
…Предел человеческих нагрузок определялся теми, кто знал ужас засасывающей текучки. Отчего не восстали? Почему не упросили добром поберечь себя для дел отправных – на многие годы вперед, – которые без него нельзя решить? Почему он проводил решения Совнаркома об обязательности отпусков для Рыкова, Цюрупы, Горького? Отчего никто из тех, кто окружал его, не потребовал того же для него, Ильича? Просьбе он бы не подчинился, решению ЦК – непременно…
…С его смертью образовался трагичный перерыв в шестьдесят лет: хозяйственный расчет, инициатива, свобода предпринимательства возвращены к жизни только в восемьдесят шестом. Лишь у гения мысль раскованна и опережающа, а сколько их, гениев, рождает человечество?!
II
Я, Каримов Рустем Исламович
Наверное, это плохо, что я верю в физиогномику и вывожу суждение о человеке после первой же встречи. Такое входит в прерогативу блистательного врача – да и то если он изучил все анализы больного. Увы, время сельских докторов кончилось (надеюсь, пока что), медицина раздроблена на «направления», пульмонолог не слишком силен в заболеваниях верхних дыхательных путей, терапевт не очень-то компетентен в остеохондрозе, а это ныне так же страшно, как рак или инфаркт – сидячий образ жизни, перепад давлений, стрессы – зажмет сосудик, ведающий подачей крови, и приходится оперировать глаз, а надо было подкрасться к первопричине – к тайне отложения солей в загривке. Человеческий организм – сложнее самого современного спутника, сконструирован совершенно поразительно, все системы взаимодействуют без команд с пункта слежения, будто какие-то таинственные компьютеры заложены в нас с рождения.
Словом, лицо этого кряжистого, неповоротливого Варравина мне понравилось. Как и его руки – большие, надежные, неспешные в движениях. Глаза очень живые, лишены той закрытой неподвижности, которая свойственна людям нашего аппарата. Желание понять точку зрения руководителя предполагает наработку чисто актерских способностей – сдержанность, медлительность в словах, умение выражать мысль с подтекстом, который позволит в любой момент только что сказанную фразу повернуть совершенно в другое направление, если обнаружится хоть тень несогласия в замечаниях или даже мимике начальника. В последние месяцы наиболее смышленые бюрократы стали применять новую тактику: порыв, чуть смягченный повтор наиболее острых абзацев из газет, однако без конкретностей, взгляд и нечто: время такое, что тот, кого сегодня разнесли в пух и прах, завтра – неведомо какими путями – меняет стул на кресло и получает два телефонных аппарата вместо одного.
Понравилось и то, что Варравин безо всяких околичностей спросил, скоро ли мне предстоит покинуть этот премьерский кабинет, никаких танцев на паркете, воистину, быка надо брать за рога.
Я ответил, что сие от меня не зависит. То, что я считал своим гражданским долгом сделать, – сделал, засим – воля избирателей и тех инстанций, которые меня и рекомендовали премьером, и утверждали.
– Скажите-ка, Рустем Исламович, – неторопливо, подыскивая слова, начал Варравин, – а почему вы так настойчиво поддерживали осужденного Горенкова?
– Поддерживал? Я и сейчас его поддерживаю. Наша с ним методология сходится, а метод – основа мысли и поступка.
– Я боюсь абстрактных формул, – заметил Варравин, посмотрев на меня изучающе, с внезапно возникнувшей внутренней отстраненностью. – Если почитать газеты прошлых лет, то, судя по такого рода абстрактным формулам, в державе царила тишь, да гладь, да божья благодать…
– Так я ведь в то именно время воспитывался, товарищ Варравин. Мое несогласие с прежним временем рождалось постепенно, не сразу, в борениях с самим собой: «На что замахиваешься, пигмей?! Наверху поумней тебя люди сидят…» Живем не в безвоздушном пространстве, вашему поколению придется еще не один раз иметь дело с теми, кто сформировался в прошлом… Рассказывают, что году в пятидесятом кто-то из окружения пожаловался Сталину на писателей… Тот отрезал: «Других у меня нет, приходится иметь дело с существующими…»
– Любите Сталина?
В общем-то, я ждал этого вопроса. После двадцатого съезда и после того, как сместили Никиту Сергеевича, я немало рассуждал об этом. Когда кончился двадцать второй съезд, я был определен в своей позиции, потом, прочитав мемуары военачальников, конструктора Яковлева, ухватился за их свидетельства в пользу Сталина, как за соломинку, – нет ничего трагичней, чем терять веру в кумира. Возвращение к Сталину было у меня далеко не однозначным, безвременье брежневской поры отмечено и положительным фактором: в обществе зрели вопросы. Да, ответов на них не давали, более того, судили за то, что вопросы слишком уж резкие: «не надо раскачивать лодку, дадим народу пожить спокойно, все устали от шараханий», тем не менее вопросы неудержимо зрели и каждый был обязан дать на них ответ – самому себе, во всяком случае, – потому что экономика катилась в пропасть, положение складывалось критическое…
– Я по глазам вижу ваше отношение к генералиссимусу… Вы читали переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем?
– Читал, – ответил Варравин.
– Ну и как? Сталин там выглядит серьезным политиком?
– Он выглядит серьезным политиком.
– А если так, то мы должны хранить респект к нему, как к лидеру, стоявшему у руля антифашистской борьбы?
– Он мог стать у руля этой борьбы в тридцать девятом году, если бы не заключил договор с Гитлером.
– Ой ли! Ну, ладно. Допустим, эта тема для разговора, но вы ответьте на мой вполне конкретный вопрос столь же конкретно. Обязаны мы хранить респект к лидеру, который стоял у руля всенародной борьбы против Гитлера?
– Народ победил нацизм, а не Сталин.
– И это верно, – ответил я. – Только вы по-прежнему уходите от прямого вопроса. У нас, к сожалению, традиционно сильна привычка судить, не ведая, бранить, не читая, хвалить, не имея на то достаточных оснований.
Варравин спросил разрешения закурить, достал пачку «Явы» (самые ненавистные мне сигареты, табачная индустрия намеренно травит сограждан: как можно продавать людям эту зловредную вонь?!), затянулся, пустил сизый дым к потолку и ответил:
– Что ж, вы меня вынудили ответить вам в положительном плане: мы обязаны хранить респект к тому лидеру, который возглавлял антифашистскую борьбу.
– У вас есть какие-то личные основания крепко не любить Сталина? Не отвечайте, если неприятно. Скажу про себя: у меня все основания его обожествлять: отец – из безграмотной семьи, – закончив Институт красной профессуры, стал секретарем райкома в тридцать восьмом, а в сорок первом ушел на фронт, получил Героя, после войны работал заместителем министра сельского хозяйства… Я с ним, кстати учась на экономическом, крепко спорил: он говорил, что только максимум вложений в сельское хозяйство даст нам изобилие, а я утверждал, что колхознику надо гарантировать свободный труд на земле, щедро за него платить, а не опутывать чудовищными налогами… Мы разошлись с отцом – а он был замечательным, очень чистым человеком – по всем экономическим позициям еще до пятьдесят третьего года… Но это так, к слову… Второй вопрос-ответ: зачем Сталину понадобилось уничтожать в тридцатых годах, да и после пролетарский состав партии, интеллигенцию, пришедшую в революцию с Лениным? Зачем вместо этой когорты он привел к лидерству молодых руководителей, девяносто пять процентов которых происходило из бедных крестьянских семей? Не из справных хозяев, а именно из бедняцких горлопанов… Они, кстати, и стали во главе страны после ухода Хрущева: «тишь да гладь» – вот оно, безвременье… И у меня возник следующий вопрос: приводил ли Сталин выходцев из бесхозных крестьян к руководству рабочей державой осознанно? Или это произошло стихийно? Если это был осознанный политический маневр, тогда речь должна идти о термидоре, подмене одного метода мышления другим, в чем-то противоположным… Тридцать седьмой год… Может быть, Сталин не смог удержать стихию доносов, оговоров и сведения счетов? Но допустим ли сам повод для массовых репрессий, то есть сведение личных счетов с теми членами Политбюро, которые работали вместе с ним начиная с семнадцатого года и по двадцать шестой – в случае с Троцким, Каменевым и Зиновьевым? Или по тридцатый – я имею в виду Бухарина, Рыкова и Томского. Ведь процессы тридцатых годов тщились доказать, что Ленин в Политбюро был окружен немецкими и японскими шпионами, – с самого начала революции! Лишь он один, Сталин, был чист и верен идее… И я с ужасом говорю себе: но ведь и это уже было в нашей истории! При Иване Грозном было! Он убрал всех политических противников, кто помнил его юношеское беспомощное худосочие… А следом за этим начались массовые казни, – опричнина сладостно искала, кого бы потащить на плаху, показания выбивали, людей пытали, мучили, унижали… Не поэтому ли Сталин попросил Эйзенштейна сделать фильм об Иване? Далее я спрашиваю себя: каков был резон для Сталина уничтожать цвет Красной Армии? Не только командование во главе с Тухачевским, Якиром и Уборевичем, но даже командиров дивизий – Рокоссовский-то чудом спасся, фразочку «нашли время в тюрьме сидеть, воевать надо» Сталин сказал ему в трагические дни… Неужели он всерьез верил в заговор полковников и капитанов? Полагал, что все они хранят память о Троцком, первом председателе Реввоенсовета? И потому оголил все границы страны? Значит, он верил в «доброту» гитлеровцев? А истым ленинцам не верил? В чем же дело? Вот вам, товарищ Варравин, мои вопросы… Их множественность надежней односторонности… Что же касается экономических методов Сталина, то здесь я – самый крутой его противник… Не знаю, помните ли вы, что до пятьдесят четвертого года наше крестьянство не имело паспортов и не могло вольно уехать из обираемой налогами деревни? Реанимация крепостного права? А как еще прикажете называть?