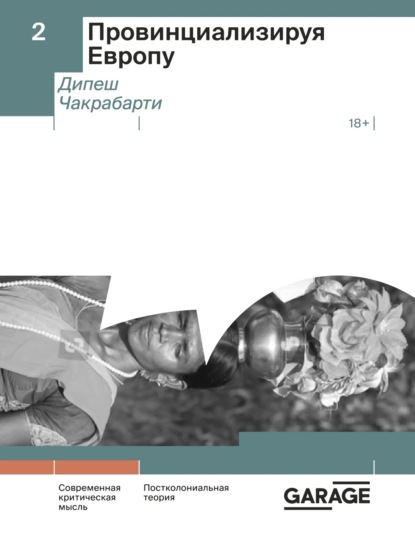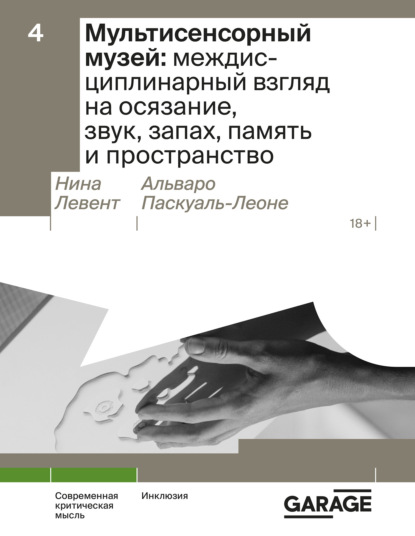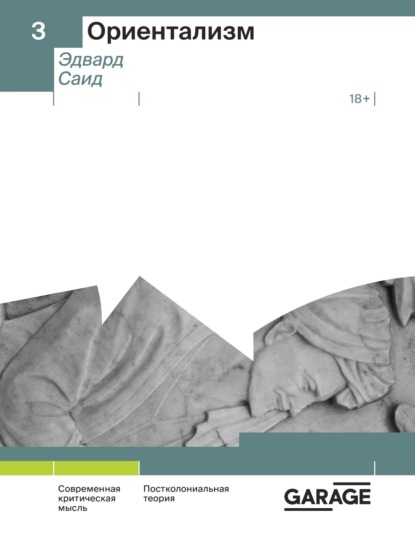Полная версия
Культура и империализм
В значительной степени эпоха классического империализма XIX века завершилась: Франция и Британия расстались со своими самыми роскошными владениями после Второй мировой войны, а менее крупные державы избавились от своих разветвленных доминионов. И снова вспомним слова Т. С. Элиота, что хотя у каждой эпохи есть своя идентичность, но значение имперского прошлого не замыкается полностью в нем самом, оно входит в жизненную реальность сотен миллионов людей, где с невероятной силой проявляется и в форме коллективной памяти, и в крайне конфликтной культурной ткани, в идеологии и политике. Как писал Франц Фанон:
Мы должны решительно отвергнуть ситуацию, на которую нас хотят обречь западные державы. Колониализм и империализм еще не заплатили по счетам, когда убрали свои флаги и полицию с наших территорий. На протяжении веков [иностранные] капиталисты вели себя в развивающемся мире ни много ни мало как преступники[147].
Мы должны учитывать ностальгию по империи, а также злобу и обиду, которую она провоцирует у подчиненных народов, и обязаны рассматривать осторожно и целостно культуру, взлелеявшую чувства, мысли и, в первую очередь, фантазию империи. Мы должны постараться осознать гегемонию имперской идеологии, которая к концу XIX века полностью интегрировалась в культурные явления, которые мы до сих пор прославляем.
Я полагаю, что сегодня в нашем критическом сознании существует серьезный разрыв, который позволяет нам уделять значительную долю времени разбору, например, эстетических воззрений Карлейля и Рёскина, не обращая внимания на ту власть, которую их идеи оказывали на подчинение малых народов и колониальных территорий. Мы не сможем правильно прочитать значимость культуры в становлении империи ни сейчас, ни тогда, пока целостно не осознаем то, как великий европейский реалистический роман выполнял одну из своих главных целей. Эта цель заключалась в почти незаметной поддержке общественного консенсуса относительно заморской экспансии, консенсуса, который, говоря словами Гобсона, «корыстные силы, возглавлявшие империализм, использовали как защитный флаг… против бескорыстных движений»[148] – филантропов, религии, науки и искусства.
Это никоим образом не подразумевает громких критических эпитетов в адрес европейской или, если хотите, западной культуры и искусства и тем более их масштабного осуждения. Вовсе нет! Я хочу изучить, как империалистический процесс протекал за границами экономических законов и политических решений и как он – через предрасположенность, через признанные государством культурные формы, через постоянную консолидацию образования, литературу, визуальные искусства и музыку – проявлял себя на совершенно другом, но не менее значимом уровне, уровне национальной культуры, который мы всегда стремимся очистить, представляя его царством неизменных интеллектуальных памятников, свободных от мирских зависимостей. Уильям Блейк[149] говорит об этом довольно прямолинейно: «Основание империи, – пишет он в аннотации к «Речам» Рейнольдса[150], – это искусство и наука. Уберите их, низведите их, и империи не станет. Империя следует за искусством, а не наоборот, как полагают англичане»[151].
Какова же в таком случае связь между преследованием имперских целей и национальной культурой? В последнее время интеллектуалы и ученые склонны разделять эти сферы. Большинство ученых являются специалистами в определенных темах и основное внимание уделяют относительно независимым объектам: викторианский индустриальный роман, французская колониальная политика в Северной Африке и так далее. Я уже достаточно длительное время говорю о том, что тенденция к узкой специализации и разделению тем противоречит пониманию целого, когда в основе анализа находятся интерпретация, направление или тенденции культурного опыта. Выпускать из виду или игнорировать национальный и международный контекст диккенсовского изображения викторианских предпринимателей, фокусироваться только на внутреннем переплетении ролей в романах – значит упускать ключевую связь между его произведениями и исторической эпохой. Следует понимать, что наличие такой связи не умаляет и не уменьшает ценность его романов как произведений искусства. Напротив, благодаря их прагматизму (worldliness), сложному комплексу связей с реальным миром они становятся еще интереснее, еще ценнее как произведения искусства.
В начале романа «Домби и сын»[152] Диккенс хочет подчеркнуть значимость рождения сына для Домби:
Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом… Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало anno Domini, но символизировало anno Dombei[153] и Сына[154].
Очевидно, что этот пассаж выполняет функцию описания заносчивой самоуверенности Домби, его нарциссического равнодушия и давления в отношении едва родившегося малыша. Но читатель может задаться вопросом, как Домби мог полагать, что вселенная и всё пространство времени подчинены его торговле? Мы должны также разглядеть в этом, несомненно, центральном для романа фрагменте специфический для британского романиста 1840-х годов посыл. Этот период, как показал Рэймонд Уильямс, был «решающим для формирования и выражения осознания наступления новой стадии цивилизации». Но затем почему Уильямс описывает это «преобразующее, освобождающее, угрожающее время»[155] без отсылок к Индии, Африке, Ближнему Востоку и Азии, куда уже распространилась преобразованная британская жизнь, на что исподволь указывает Диккенс?
Уильямс – великий критик, я восхищаюсь его работой и многому у него научился, но я ощущаю его ограниченность в понимании английской литературы как преимущественно английского явления. Это центральная идея его работы, а также трудов большинства филологов и критиков. Более того, ученые, пишущие о романах, работают почти исключительно только с такими авторами (хотя Уильямс и не относится к их числу). Такие привычки формируются благодаря влиятельному, хотя и неточному, представлению, будто работа литератора автономна. Как я постараюсь продемонстрировать в этой книге, литература постоянно отсылает к самой себе, участвуя тем или иным образом в заморской экспансии Европы, и создает то, что Уильямс называет «структурой эмоций», которая поддерживает, разрабатывает и закрепляет имперские практики. Разумеется, Домби – это не сам Диккенс и не вся английская литература, но то, как Диккенс описывает эгоизм Домби, напоминает, высмеивает и все-таки в конечном итоге зависит от проверенного и подлинного дискурса имперской свободы торговли, британского меркантильного этоса, ощущения, что торговое продвижение за границу не несет ничего, кроме неограниченных возможностей.
Эти сюжеты не следует отделять от нашего анализа романа XIX века, и тем более не следует отрезать литературу от истории и общества. Я считаю, что предполагаемая автономия сферы искусства навязывает обедняющие ограничения, которых сами произведения искусства совершенно не предполагают. И все-таки я воздержусь от выдвижения на разработанное поле теории идей о связи между литературой и культурой, с одной стороны, и империализмом – с другой. Вместо этого я рассчитываю на то, что из самих текстов, созданных в захватившей их имперской среде, проступят нужные связи, и эти связи можно будет развивать, разрабатывать, расширять или критиковать. Ни культура, ни империализм не являются неподвижными сущностями, и связи между ними в исторической перспективе – динамичные и сложные. Моя главная цель состоит не в том, чтобы разделить, а в том, чтобы связать. Я заинтересован в этом по философской и методологической причине. Я считаю, что культурные формы всегда гибридны, смешаны, нестерильны, и настало время с мощью анализа вернуть их в реальность.
II
Образы прошлого, чистые и нечистые
Двадцатый век близится к своему завершению, и к этому моменту практически во всем мире сформировалось общее понимание линий между культурами, тех разделений и различий, которые не только позволяют нам отделить одну культуру от другой, но и увидеть, насколько культура – это созданная человеком структура, сочетающая власть и совместное участие: благосклонная к тому, что она включает, инкорпорирует, ценит, и неблагосклонная к тому, что она исключает и обесценивает.
Я полагаю, что в любой определяемой как национальная культуре есть стремление править, властвовать и доминировать. В этом отношении французская и британская, японская и индийская культуры оказываются конкурентами. Парадоксально, но мы никогда не осознавали так отчетливо, как сегодня, насколько удивительно гибридным является культурный и исторический опыт, как он черпает из зачастую противоречащих друг другу источников и сфер, как пересекает национальные границы, отвергая политическое действие, простые догмы и ярый патриотизм. Культуры, не являясь ни едиными и монолитными, ни автономными сущностями, сегодня признают больше «инородных» элементов, инаковости, различий, чем осознанно исключают. Кто сегодня в Индии или Алжире сможет уверенно отделить британский или французский компонент прошлого от современных реалий и кто в Британии или Франции сможет провести ясную черту вокруг британского Лондона или французского Парижа, отделяющую их от влияния Индии и Алжира?
Это не просто академические или теоретические вопросы, вызывающие ностальгию. С помощью пары коротких экскурсов легко можно доказать, что они имеют важные социальные и политические следствия. И в Лондоне, и в Париже живут большие диаспоры из бывших колоний, которые интегрировали в свою повседневную жизнь значительный слой британской и французской культуры. Но это всё очевидно. Возьмем более сложный пример – хорошо известный сюжет греческой античности или традиции как детерминанты национальной идентичности. В работах «Черная Афина» Мартина Бернала[156] и «Изобретение традиции» Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера[157] подчеркивается огромное влияние сегодняшних страхов и актуальной повестки на сконструированные нами чистые (даже очищенные) образы привилегированного, генеалогически полезного прошлого, из которого мы исключаем нежелательные элементы, следы и нарративы. Так, согласно Берналу, несмотря на то, что изначально было известно о египетских, семитских и других южных и восточных корнях греческой цивилизации, в XIX веке она была перепроектирована как «арийская»[158], а ее семитские и африканские корни активно вычищались или прятались подальше. Поскольку сами греческие авторы открыто признавали свое гибридное культурное прошлое, европейские филологи приобрели идеологический навык обходить неудобные фрагменты без комментариев в интересах аттической чистоты[159]. (Можно также вспомнить, что только в XIX веке европейские историки крестовых походов начинают не упоминать случаи каннибализма среди франкских рыцарей, хотя поедание человеческой плоти без стеснений упоминается в хрониках крестоносцев[160]).
Образы европейской власти в XIX веке ковались и формировались в не меньшей степени, чем образ Греции, а что лучше подходит для этого, чем производство ритуалов, церемоний и традиций? Именно этот тезис выдвигали на первый план Хобсбаум, Рейнджер и другие авторы «Изобретения традиции». В эпоху, когда старые союзы и организации, связывавшие изнутри домодерное общество, истрепались, а общественное давление на управляющих многочисленными заморскими территориями и крупными новыми группами населения внутри метрополий выросло, правящие европейские элиты ощутили ясную необходимость опрокинуть свою власть назад во времени, придать ей историю и легитимность, которые могли дать только традиция и устойчивость. Так, в 1876 году королева Виктория была провозглашена Императрицей Индии[161], а ее вице-король, лорд Литтон[162], прибывший с визитом, был встречен «традиционными» празднествами и торжественными приемами (durbars) по всей стране, а также большим Имперским собранием в Дели[163], как будто власть королевы обеспечивалась в основном не силой и односторонними указами, а древним обычаем[164].
Подобные конструкты создавались и противоположной стороной, когда восставшее местное население (natives) изображало свое доколониальное прошлое. Во время Войны за независимость Алжира (1954–1962) деколонизация подтолкнула алжирцев и мусульман создавать образы того, как, согласно их предположениям, выглядели их предки до французской колонизации. Та же стратегия просматривается в текстах многих национальных поэтов и прозаиков, созданных во время борьбы за независимость или освобождения многих территорий колониального мира. Я хочу подчеркнуть мобилизующую силу создаваемых в этих ситуациях образов и традиций и их вымышленный, фантастический, хотя и романтически окрашенный характер. Вспомним, какую роль сыграл Йейтс, его Кухулин[165] и «Большие дома»[166] в формировании образа прошлого Ирландии, которым могли восхищаться деятели национального движения. В постколониальных национальных государствах необходимость таких сущностей, как «кельтский дух», «негритюд»[167] или ислам, становится очевидной: они связаны не только с местными манипуляторами, позволяя тем в том числе прикрывать текущие ошибки, коррупцию или тиранию, но и с имперским контекстом, с которым местные манипуляторы боролись, из которого они вышли и потребность в котором они ощущают.
Многие имперские оценки, лежавшие в основе колониальных завоеваний, сохраняют актуальность, несмотря на обретение независимости большинством колоний. В 1910 году французский защитник колониализма Жюль Арман[168] говорил так:
Необходимо признать в качестве принципа и точки отсчета тот факт, что существует иерархия рас и цивилизаций, что мы принадлежим к высшей расе и цивилизации, и одновременно признать, что это превосходство, наделяя нас правами, накладывает взамен строгие обязательства. Основным оправданием завоевания туземных народов служит убежденность не только в нашем материальном превосходстве – в механике, экономике и военном деле, – но и в моральном. Наше достоинство покоится на этой черте, и она подкрепляет наше право управлять остальным человечеством. Материальная власть – это всего лишь средство для достижения этой цели[169].
Декларация Армана служит удивительным предвестником сегодняшней полемики вокруг превосходства западной цивилизации над другими, вокруг высшей ценности западного гуманизма, превозносимой такими консервативными мыслителями, как Аллан Блум[170]; принципиальной подчиненности (и опасности) не-западных жителей, провозглашаемой япононенавистниками, идеологическими ориенталистами и критиками «туземного» движения в Азии и Африке.
Соответственно, перенесение культурных оценок в настоящее играет не меньшую роль, чем собственно прошлое. По причинам, отчасти вплетенным в имперский опыт, старые различения между колонизаторами и колонизированными проступили вновь в том, что сегодня формулируется иногда как отношения Север – Юг. Это повлекло за собой актуализацию защитных механизмов, идеологические и риторические битвы, тлеющую враждебность, которая служит быстрым триггером для опустошительных войн, что отчасти уже произошло. Можем ли мы как-то переосмыслить имперский опыт, кроме как в терминах иерархии, то есть преобразовать наше понимание прошлого и настоящего, наши оценки в отношении будущего?
Мы должны начать с описания наиболее общих способов, при помощи которых люди обращаются с переплетенным, многосторонним наследием империализма. И речь идет не только о тех, кто уехал из колоний, но и о тех, кто жил там изначально и остался жить – о туземных жителях (natives). Многие люди в Англии, вероятно, ощущают угрызения совести и испытывают сожаление по поводу действий своего государства в Индии, но много и тех, кто скучает по старым добрым временам, даже если ценность тех дней, причина их завершения и собственные оценки местного национализма остаются в форме неразрешенных вопросов с меняющимися ответами. В первую очередь это проявляется, когда дело касается расового вопроса, как это произошло во время кризиса после публикации «Сатанинских стихов» Салмана Рушди и последующей фетвы, в которой аятолла Хомейни[171] приговорил автора к смерти.
Но не менее оживленными и разнообразными являются дебаты о колониальной практике и имперской идеологии в странах третьего мира. Значительные группы населения полагают, что при всей горечи и унижениях поработившей их власти она тем не менее принесла им выгоды – либеральные идеи, национальное самосознание, технологии, – которые со временем сделали империализм значительно менее отвратительным. Другие жители постколониальной эпохи ретроспективно размышляют о колониализме, чтобы лучше понять трудности настоящего, с которыми столкнулись новые независимые государства. Реальные проблемы демократии проявляются в государственном преследовании тех интеллектуалов, которые продолжают проявлять смелость в своих мыслях и практиках, – это Экбаль Ахмад и Фаиз Ахмад Фаиз в Пакистане, Нгуги ва Тхионго в Кении, Абдельрахман-эль-Муниф в арабском мире[172]. Непримиримость, радикальность суждений этих крупных мыслителей и художников не ослабевает ни под тяжестью страданий, ни под суровостью наказаний.
Муниф, Нгуги, Фаиз и их единомышленники всего лишь демонстрируют неугасаемую ненависть к укоренившемуся, непрекращающемуся колониализму или империализму. По иронии судьбы, их слышат лишь частично как на Западе, так и в их собственных странах. Многие западные интеллектуалы смотрят на них как на отсталых жалобщиков (Иеремий)[173], осуждающих грехи колониализма прошлого, а власти Саудовской Аравии, Кении или Пакистана, в свою очередь, считают их агентами внешних держав, заслуживающими тюремного заключения или изгнания. Трагедия этого опыта, равно как и многих постколониальных историй, коренится в ограничениях, установленных обращением к чрезвычайно поляризованным темам, память о которых хранится неравномерно и неодинаково. Повестка, сюжеты, болевые точки и сторонники определенных позиций в метрополиях и мире бывших колоний совпадают лишь частично. И небольшой общий участок в данном случае создает всего лишь то, что можно назвать риторикой обвинения.
В первую очередь я хочу проанализировать реалии интеллектуальных площадок, общие и отличающиеся в постимперском публичном дискурсе, сконцентрировавшись на том, что в этом дискурсе порождает и поощряет риторику и политику обвинения. Затем, с помощью методики и оптики сравнительного литературоведения, я рассмотрю способы, какими пересмотренное или переосмысленное понимание постимперских интеллектуальных оценок может распространиться на частично пересекающиеся социальные группы внутри обществ метрополии и бывших колоний. Посмотрев на различный опыт с противоположных точек зрения, создав набор переплетенных, перекрывающих друг друга историй, я постараюсь сформулировать альтернативу как политике обвинения, так и еще более деструктивной политике конфронтации и враждебности. Так может возникнуть интересный метод секулярной интерпретации, который может оказаться полезнее, чем простой отказ от прошлого, чем сожаление о том, что оно завершилось, или чем враждебность между Западом и незападными культурами – враждебность, бессмысленная своей жестокостью и популярностью и неизбежно ведущая к кризису. Наш мир слишком мал и взаимозависим, чтобы пассивно наблюдать за развитием этого кризиса.
III
Два видения в «Сердце тьмы»
Господство и неравенство распределения силы и богатства – вечные факты истории человечества. Но в современных глобальных условиях их можно интерпретировать и как явления, связанные с империализмом в его исторических и новых формах. Народы Азии, Латинской Америки и Африки сегодня политически независимы, но во многих отношениях остаются подчиненными, зависимыми не меньше, чем это было при прямом правлении европейских держав. С одной стороны, это следствие нанесенных самим себе ран, и критики, типа Вирджил Найпол, имеют обыкновение говорить: они (а все знают, что «они» подразумевает цветных, черномазых (wogs), ниггеров) должны обвинять сами себя в том, какие «они» есть, и нет смысла кивать на наследие империализма. С другой стороны, обвинить сразу всех европейцев в несчастьях настоящего – не самая удачная альтернатива. Нам необходимо рассмотреть эти обстоятельства как сеть взаимозависимых историй, которые было бы неосторожно и бессмысленно замалчивать, но полезно и интересно понять.
Тезис не очень сложный. Пока вы сидите в Оксфорде, Париже или Нью-Йорке и говорите арабам или африканцам, что они принадлежат к по определению больной, неизлечимой культуре, вы навряд ли сможете их убедить. Даже если вы окажетесь сильнее, они не уступят вам право превосходства или право управления собой, несмотря на ваши очевидные богатство и силу. История этого тупикового противостояния наблюдается во многих колониях, где белые хозяева сначала не встретили сопротивления, но в итоге были выставлены вон. И наоборот, одержавшие победу туземцы часто обнаруживали потребность в Западе, осознавали, что идея тотальной независимости была националистической фикцией, придуманной в основном для тех, кого Фанон называл «националистической буржуазией» и кто, в свою очередь, правил независимыми странами посредством грубой, эксплуататорской тирании, напоминавшей прежних хозяев.
И таким образом в конце XX века имперский цикл предыдущего столетия в каком-то смысле воспроизвел сам себя, несмотря на то, что сегодня не осталось больших неосвоенных пространств, нет продвигающихся фронтиров, нет увлекательности основания новых поселений. Мы живем в единой глобальной среде с большим количеством экологических, экономических, социальных и политических отягощений, разрывающих эту смутно осознанную, почти не понятую, не проанализированную ткань. Любой, кто, пусть даже расплывчато, осознает этот мир как целое, будет встревожен тем, как легки, беспардонно эгоистичны и узки интересы типа патриотизма, шовинизма, этнические, религиозные и расовые противоречия, которые могут привести к массовым разрушениям. Мир просто не может позволить себе устроить это еще несколько раз.
Не нужно надеяться на то, что готовые решения для гармоничного мира уже где-то лежат и ждут нас. Столь же непродуктивно было бы предполагать, что идеи мира и добрососедства имеют много шансов на успех, пока власть вдохновляется агрессивными концепциями «национальных жизненных интересов» или неограниченного суверенитета. Столкновение США с Ираком и нападение Ирака на Кувейт в споре за нефть служат тому ярким примером. Удивляет здесь то, что до сих подобный провинциальный ход мысли и действия остается превалирующим, некритично воспринимаемым и постоянно воспроизводимым поколением за поколением в рамках системы образования. Нас всех учат почитать свои нации и восхищаться традициями. Нас учат строго блюсти их интересы и пренебрегать другими обществами. Новый, и на мой взгляд, отвратительный трайбализм раскалывает общества, разделяет народы, провоцирует жадность, кровавые конфликты и игнорирование особенностей этнических и социальных меньшинств. Крайне мало времени тратится даже не на «изучение других культур» – при всей размытости этой формулировки, – а даже на изучение карты взаимодействий, современного, зачастую продуктивного движения, происходящего каждый день, даже каждую минуту между государствами, обществами, группами, идентичностями.
Ни один человек не способен удержать эту карту в своей голове? B этом одна из причин, по которой географию империи и разносторонний имперский опыт следует изучить, прежде всего, через наиболее яркие, выдающиеся черты. Изначально, если мы вернемся в XIX век, то увидим, что движение в сторону империй привело значительную часть территории планеты под управление небольшой группы держав. Чтобы ухватить значимость этого факта, я предлагаю взглянуть на специфический ряд богатых культурных свидетельств, показывающих взаимодействие между Европой или Америкой с одной стороны и колонизированным миром – с другой. В этих источниках взаимодействие происходит в явном виде и служит основой сюжета. Но прежде, чем я подойду к этому исторически и систематически, полезно взглянуть на то, что сохраняется от империализма сегодня в актуальных культурных дискуссиях. Этот осадок плотной, интересной истории парадоксальным образом оказывается одновременно локальным и глобальным, и это признак того, что имперское прошлое продолжает жить с удивительной интенсивностью, порождая аргументы за и против. Эти следы прошлого в настоящем актуальны и легкодоступны, что подсказывает метод изучения историй (множественное число тут намеренно), созданных империей, и не просто рассказы о белых мужчинах и женщинах, но также и о не-белых, тех, чьи земли и само существование оказалось под угрозой, тех, чьи жалобы отклонялись или игнорировались.