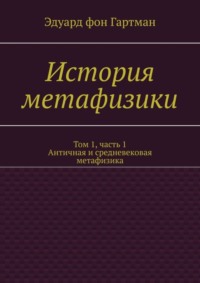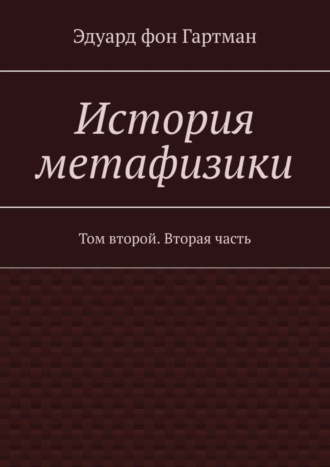
Полная версия
История метафизики. Том второй. Вторая часть
Если по отношению к кажущимся материальным восприятиям материи, а также по отношению к сверхчувственному абсолюту Бенеке порвал с наивным реализмом и признал лишь косвенное, доступное, несовершенное познание, то по отношению к собственной душе он остался в наивном реализме, то есть в вере в непосредственное познание объекта, который совпадает здесь с субъектом. В то время как следующей задачей современной философии было преодоление наивного реализма во всех трех этих областях в равной степени, и в особенности изгнание его из последней, самой трудной позиции – веры в непосредственное самопознание души, Бенеке считает главным достижением современной философии сковывание наивного реализма в этом единственном пункте. Ошибочность этой точки зрения в целом не может быть подробно рассмотрена здесь,1) но можно лишь показать, как мало сам Бенеке способен поддерживать это утверждение и как оно тает под его пальцами. —
Что это за «я», которое, как предполагается, известно нам совершеннее, чем любое другое существо? (189). Понятие «я» не является изначально данным или врожденным, оно должно сначала сформироваться в результате длительного развития и оставленных им отпечатков (420). Эго не совпадает с нашим индивидуальным бытием, но устанавливается через определенную форму и связь с этим бытием, без сохранения которой даже индивидуальное продолжение этого бытия не представляло бы для нас интереса (397).
Бенеке признает эту трудность, но считает, что может ее избежать. Во-первых, он утверждает, что прямое познание случайностей включает в себя прямое познание не всей душевной субстанции, а лишь ее части, так что завершение познания может быть достигнуто только путем косвенных умозаключений. Согласно его концепции субстанции, душевные случайности также являются частями душевной вещи и в своей совокупности самой этой вещью, или же обе охватывают друг друга (171); сознательные случайности, таким образом, являются сознательными частями душевной субстанции (173). Далее он полагает, что переход от непосредственно воспринимаемых сознательных актов к бессознательным авариям может быть осуществлен тремя способами. Во-первых, сознательные акты возникли из бессознательных внутренних диспозиций, так что те входят в них, сохраняются в них и в то же время воспринимаются как охваченные ими (412). Во-вторых, мы получаем бессознательные происшествия чисто как таковые, когда вычитаем из них восходящие элементы, возвысившие их до сознательных, т. е. когда мы вычитаем в мысли то, что относится к образованию до сознания (412—413, 181). В-третьих, мы можем вычесть из сознательных актов то, что исчезает из них, когда они становятся бессознательными следами от сознательных актов (182).
Составлять субстанцию из суммы случайностей и отрицать каждую синтетическую связь, которая к ней добавляется, значит отрицать само понятие субстанции и растворять его в свойствах и действиях. Желать признать бессознательную деятельность души, вычитая характеристику сознания из воспринимаемых сознательных актов, – значит путать понятие бессознательной деятельности души, которое, несомненно, может быть получено таким путем, с самой этой бессознательной деятельностью. После этого остаются лишь гипотетические выводы от известных следствий (сознательных актов) к неизвестным причинам (бессознательным диспозициям) или от известных причин (сознательных актов) к их неизвестным следствиям (оставленным следам памяти). Во всех случаях мы имеем дело уже не с непосредственным перцептивным знанием, а с косвенно выведенным знанием; т. е. для Бенеке внутреннее существо души на самом деле является таким же косвенно выведенным, как и самость материальных явлений или Абсолюта. Тем самым он фактически опровергает свою наивно-реалистическую догму о непосредственном самовосприятии души в ее бытии-в-себе. «Мы можем постичь» (бессознательные) «случайности внутреннего существа души столь же мало непосредственно, как и внутреннее существо самой души» (173). Если мы можем рассматривать воображение, чувство и стремление как основные функции в развитой душе, но мы даже не можем рассматривать их как изначальные, врожденные элементарные функции, а должны проследить их до более глубоких, более элементарных и более изначальных базовых функций (356), то реализация истинной самости души все дальше отходит от непосредственного самопонимания. Более того, согласно Бенеке, эта бессознательная внутренняя сущность души представляет собой нечто совершенно иное, чем мы обычно ее себе представляем, что также говорит против непосредственного самовосприятия. Ведь не может быть столько разных мнений и столько споров о чем-то непосредственно воспринимаемом.
Только существо души предполагается субстанциональным, но и оно должно отличаться от просто феноменального материального бытия своей субстанциональностью. Тем не менее, в душе нет ничего, что можно было бы с полной уверенностью утверждать как абсолютно устойчивое. Ибо душа действительно нематериальна и едина (414); но она не проста, а состоит из сотен тысяч признаков, или склонностей, или первичных способностей (415—416). Таким образом, это духовно-составное существо (441), которое само по себе не является неделимым (419). Она становится все сильнее и сильнее, чем больше накапливается следов (453) – ее повторное растворение после смерти может быть пропущено, но может и произойти (441), хотя это крайне маловероятно по моральным причинам (465, 458). Все так называемые способности души, такие как понимание, суждение, разум и т. д., являются лишь гипостазированными классовыми понятиями очень сложных явлений и результатами длительного развития. Напротив, первичных способностей столько же, сколько и конкретных стимулов, то есть многие сотни тысяч. Они возникают из сенсорных стимулов, поступающих в душу; ведь они, как и сами первичные способности, являются силами, то есть субстанциями, и поэтому должны лишь претерпеть трансформацию, чтобы из субстанциальных стимулов стать субстанциальными первичными способностями. Подобные сущности притягиваются друг к другу, передают друг другу свои силы, уравнивают их и объединяют в системы, например, способности пяти отдельных чувств, воображения, понимания, разума и т. д. (311, 156—157). (319, 156—157, 282—283, 29). Из этого слияния в конце концов возникает сознательное единство всех актов, которое соответствует единству всех первичных способностей в одной и той же душе, то есть «я». Это чисто чувственное построение души из поступающих материальных стимулов, которые преобразуются в первичные способности, очевидно, несовместимо ни с монадологией Лейбница, ни с Cogito ergo sum Декарта. Это чисто гипотетическое предположение, над которым размышляет индуктивное мышление, но которое никогда не может быть подтверждено самонаблюдением. Самовосприятие уже ничего не знает о следах и первобытных способностях, ничего о возникновении воображения, чувства и стремления из более первобытной деятельности, не говоря уже о возникновении и слиянии первобытных способностей. Психология Бенеке переносит истинное «я» души в бессознательные глубины, в которые никакое самовосприятие никогда не сможет проникнуть. То, что мы воспринимаем, – это лишь часть возрождения тех сложных систем следов, которые превосходят порог сознания. Если эта психология Бенеке верна, то исходная точка его метафизики, самовосприятие души в себе, неверна, и наоборот… Особенность сенсуализма Бенеке в том, что он считает возможным реализовать его как нематериалистический спиритуализм. Он правильно относит к «следам» (108, 196) память, привычки, своеобразные повадки, особые движения или искажения лица, наклонности, страсти, пороки, интеллектуальные способности и т. д. Но эти следы не находятся где-то, не связаны с каким-либо телесным органом, а являются столь же чисто психическими, как и акты, из бессознательного которых они возникают. Даже в нисходящем ряду организации вплоть до неорганических вещей Бенеке всегда ищет уменьшающуюся меру способности сохранять то, что было пережито только в психической внутренности по аналогии с человеком, потому что только там можно найти бытие-в-себе или субстанциальное бытие (109). Даже телесные следы, проявляющиеся в навыках и т. п., могут быть истолкованы только как психические следы низшего рода, подобно тому как он рассматривает тело как душу низшего рода; ибо они вступают в те же отношения ассоциации, что и психические следы, как с ними, так и между собой (197). Отнюдь не приписывая психические диспозиции материальным следам в организме, он даже способен объяснить материальные диспозиции тела только по аналогии с психическими остатками. Это показывает, с одной стороны, что Бенеке писал, когда материалистическое течение было еще открыто, а с другой стороны, насколько необходимо было метафизике пройти через это материалистическое течение, чтобы сгустить туманность своих понятий в твердые сущности.
Категории могут быть определены только путем тщательного изучения индукции (351). Бенеке критикует Канта за попытку получить их с помощью дедукции и хвалит Аристотеля за попытку получить их с помощью индукции (153). При этом он резко выступает против мнения, которое остается авторитетным и сегодня. Как только возобладает мнение, что категории (независимо от их бессознательной априорной природы) могут быть получены для нашего сознания только путем абстракции и индукции из опыта восприятия и мышления, то мы вспомним и о том, кто первым ясно осознал и выразил эту методологическую истину. Разумеется, он смог сделать это, одновременно признавая и отрицая априорную природу категорий. В качестве категорий истинного или бытия-в-себе Бенеке выделяет следующие (354—358):
1. вещи (субстанции) вместе со свойствами (случайностями) и их взаимосвязями.
2. отношения.
а) Сопоставление (умопостигаемый коррелят пространственности).
б) Временная последовательность.
в) Причинная связь.
3. количество (справедливо как для вещей, так и для отношений).
Субстанция и динамика, вещь и сила – одно и то же (321—325); в этом Бенеке полностью лейбницевский. Однако, напротив, для Бенеке все, что динамично или демонстрирует проявление силы, также субстанциально, например, психические стимулы и следы, свойства вещи и случайности субстанции. Таким образом, всякая субстанция, которая все же имеет случайности, снова состоит из субстанций, поскольку каждая случайность субстанциальна, а субстанция покрывает себя суммой случайностей без всякого избытка (171). В этом Бенеке полностью гумилевский: все субстанции состоят из преобразованных чувственных стимулов, так что только они являются действительными первичными субстанциями.
Бенеке – трансцендентальный идеалист в отношении формы восприятия пространственности, хотя он отрицает ее априорный характер и объявляет тщетными все попытки вывести ее (например, у Гербарта). Он признает, что большинство субстанций должно иметь форму сопоставления, но утверждает, что это сопоставление должно соответствовать скорее одновременному существованию нескольких непространственных представлений в сознании, чем нескольким пространственным представлениям в концептуальном пространстве. Он выводит это из того факта, что истинное бытие или бытие-в-себе – это только бытие души, которое непространственно, тогда как пространственное бытие – это только материальное бытие, которое является лишь видимостью. Форма пространственности примыкает только к феноменальному продукту субъективных и объективных факторов, но не к любому из этих факторов (64, 233—235,355,178). Бенеке не стал подробно останавливаться на непространственном сосуществовании субстанций, иначе он убедил бы себя, что такое сосуществование субстанций, которое должно одновременно допускать их воздействие друг на друга и исчерпывающе объяснять изменения наших восприятий, должно быть наделено постоянным трехкратным переменным многообразием, но что тогда их отличие от субъективной, математически очищенной пространственной формы также становится неприменимым. —
В отношении времени, причинности и количества Бенеке является трансцендентальным реалистом. Время – это сущностная основная форма в единственном воспринимаемом нами бытии-в-себе, и мы не можем представить себе никакого другого бытия, кроме как во времени (25g), тогда как мы вполне можем представить себе непространственное бытие и познать его в нашей душевной сущности. Мы с полной уверенностью признаем причинность в нашем внутреннем опыте, например, при вызывании воспоминания, усилении мысли, движении конечности посредством воли, пробуждении одной идеи посредством другой, изменении чувства посредством противоположного. Здесь мы имеем непоколебимую уверенность в том, что имеет место не просто временная последовательность, а причинность или производство, и действительно, для этой уверенности достаточно одного случая, так что частота и привыкание ничего больше не добавляют (284—285). Поскольку мы воспринимаем бытие-в-себе в самих себе, это гарантирует, что причинно-следственная связь действительна в истинном бытии-в-себе, которое есть бытие души (290). Действительна ли она также и вне нашей души, мы, конечно, можем вывести только по аналогии, так что это предположение всегда остается гипотезой, так же как и предположение об истинном бытии-в-себе вне нашей собственной души. Таким образом, скептицизм Юма прав в том, что мы не воспринимаем причинность вне нашего собственного существа; но мы думаем о ней посредством ассоциации, которую мы приобрели из внутреннего опыта, и это основание находит столько подтверждений в опыте, что было бы нелепо сомневаться в его определенности (287—294).
Построение взаимодействия души и тела не вызывает затруднений, если только помнить, что их несходство существует только для нашего представления, но что материальный облик тела как его внешний вид основан на определенных системах сил, которые соединяются с системами психических сил в постоянной градации (303). Система сил тела и система сил связанной с ним души действительно и реально связаны друг с другом в Едином Существе, и для этой связи не требуется иной связи, чем между самими основными психическими системами (198). Поэтому неудивительно, что вещи производят на нас определенные впечатления и тем самым вступают с нами в определенные отношения (трансцендентная причинность), хотя воспринимающая их душа не просто пассивна, но в то же время становится активной (63). Вывод о том, что имманентная причинность между материальными явлениями, как и сами эти явления, является простым субъективным рефлексом причинности, возникающей между вещами самими по себе, для Бенеке совершенно очевиден, но он не высказывает его прямо. Бенеке не обсуждает, как различные индивидуальные души более высокого или более низкого уровня, или существенно различные силы начинают оказывать влияние друг на друга. Действуют ли друг на друга силы или способности, связанные с одной и той же душой, или же это делают те, которые принадлежат разным индивидуальным душам, для него не имеет значения, потому что даже силы или способности, принадлежащие одной и той же душе, изначально были существенно отдельными стимулами, которые только благодаря своему взаимодействию вступили в определенную единую связь и объединились, образовав психическую систему. —
Бенеке решительно утверждает всеобъемлющую силу закона причинности без исключений, то есть отрицает и случайность, и индетерминистскую свободу воли, и трансцендентальную свободу самоопределения человека к добру и злу, будь то до или в этой жизни. Он допускает детерминированную свободу морального самоопределения только через достаточные мотивы и справедливо считает ее достаточной для обоснования моральной ответственности (333—349). По его мнению, свобода относится к заданным условиям, и остаются только идеи бессмертия и Бога как такового, которые относятся к не заданным условиям и поэтому выходят за рамки научно строгого знания в сферу веры или простой вероятности.
Истинное бессмертие относится не к неуничтожимым силовым элементам вещества, а к той специфической форме, которая характеризует нашу индивидуальную человеческую душу (399). В более зрелом возрасте сознание все больше и больше обращается внутрь и удаляется от внешнего, чувственного; тогда количество элементов сознания, выросших до этого момента, снова уменьшается (455—456), но, вероятно, не внутренняя душа или система бессознательных следов и предрасположенностей (447—448, 456). Смерть наступает в результате иссякания источника сознания; однако для продолжающей действовать индивидуальной системы бессознательных способностей души может открыться новый источник сознания (459). Душа может быть пересажена на новую телесную почву (ре-эмбодимент) или сама может быть включена в высшие психические системы, от которых она затем получает стимулы (460—461). Такое решение проблемы упирается в предположение, что следы, составляющие душу, непространственны и нематериальны и занимают место в психической внутренности. Как только этот односторонний спиритуалистический взгляд превращается в материалистический, т. е. как только следы начинают искать в пространственных условиях хранения силовых элементов, составляющих телесный центральный орган (в расположении их сосуществования), индивидуальное продолжение души без сохранения органа, в котором откладываются ее следы памяти и характера, уже не может быть мыслимо. – В идее Бога Бенеке придерживается позитивной, особо существующей бесконечности Бога и, таким образом, в каждой точке приходит к противоречиям между этой бесконечностью божественного существа и конечностью и ограниченностью человеческого разума. Однако он успокаивает себя тем, что эти противоречия очевидны только для нашего ограниченного понимания, вместо того чтобы задуматься, не являются ли они скорее следствиями противоречивого по своей сути предрассудка, а именно актуальной бесконечности Бога, тогда как религиозное сознание требует только неизмеримого актуального превосходства Бога над человеком, а метафизическое мышление – только потенциальной бесконечности Абсолюта с конечным актусом. Он отвергает пантеизм, поскольку тот утверждает реальное единство мира с Богом или его естественное возникновение из Бога. Он не признает пантеизма, в котором мир действительно отличен от Бога или даже вызван к существованию свободным решением божественной воли; скорее, он сразу называет такую точку зрения теизмом. Однако свою собственную точку зрения он справедливо называет теизмом, поскольку считает, что качества, которыми он наделяет Бога, пусть даже в притчах, заимствованы из личной, человеческой духовной жизни, то есть что он должен мыслить Бога как личность (545—547, 522). Но свою точку зрения он называет критическим теизмом (543) в противоположность всякому догматическому теизму, потому что он учит не строгой уверенности в Боге, а только вероятности того же самого, потому что он не находит никакого определенного знания, а только умозрительную веру, достижимую. Эта вера, однако, не только моральная и практическая, не только субъективная, но также теоретическая и объективная (565—567).
Очевидно, что вера Бенеке в Бога так же несовместима с его сенсуализмом, как и вера в бессмертие. Если весь личный, человеческий дух в конечном счете является продуктом взаимодействия существенных чувственных стимулов, то дух Бога может быть только таким продуктом, а если он не может быть таковым по очевидным причинам, то он не может быть вообще. Таким образом, спиритуализм Бенеке логически ведет к атеизму, поскольку покоится на почве сенсуалистического плюрализма. От этого следствия его удерживают только причины эмоциональной жизни, а не научные соображения. Как только спиритуалистически понимаемые «следы» Бенеке переосмысливаются материалистически, его спиритуалистическая вера в Бога также рушится и должна освободить место для материалистического атеизма. Утилитарный эвдемонизм Бентама, которому Бенеке отдавал дань уважения, мог только способствовать такому изменению. Если психология Бенеке не осталась незамеченной, то его метафизика так и не получила признания своей исторической значимости. Но не только его методология и эпистемология, но и его исследования бессознательной метафизической подоплеки сознательной психической жизни должны спасти этого мыслителя от незаслуженного забвения (см. «Über die Be- wusstwerdung der im Unbewusstsein angelegten Seelenthätig- keiten» в «Psychologische Skizzenc» Бенеке, vol. I, pp. 335—492, и Lehrbuch der Psychologie, pp. 71—83).
4. Абсолютный теизм
Из всех теистов Гюнтер (1785—1862), вероятно, яснее всех осознает, что пантеизм в любой форме несовместим с теизмом и что, прежде всего, для спасения теизма необходимо бороться с гигантской змеей пантеизма. В то время как все остальные теисты, за исключением Гербарта, делают более или менее значительные уступки пантеизму или даже сознательно стремятся синтезировать его с теизмом, Гюнтер самым решительным образом отвергает любые уступки пантеизму. Решительнее, чем любой другой тринитарий, он подчеркивает положение о том, что Бог может быть личным сам по себе, только если он не только независим от своего отношения к миру, но и если он не прост сам по себе, но множественен и в противопоставлении своих имманентных моментов достигает вечной персонификации в каждом из них. В отличие от всех других спекулятивных теистов XIX века, он придерживается вполне логичной точки зрения, что если Бог есть Я, то мир должен быть его не-Я, то есть реальным отрицанием и противопоставлением Бога, и не должен быть утвердительным позиционированием Бога в самом Боге. Если его тринитарная доктрина личности является лишь упрощенной модификацией тринитарного теизма, то его доктрина творения совершенно оригинальна и в то же время является атрибутом, с помощью которого он развил теизм до его строжайшей последовательности.
Жесткий дуализм между Богом-создателем и созданным им из ничего не-божественным миром необходим для теизма. В отличие от этого, Гюнтер ошибается, полагая, что картезианский дуализм двух различных субстанций в сотворенном мире также является существенным для теизма. Напротив, он совершенно безразличен для теизма; атавистический возврат к картезианскому дуализму двух субстанций, который уже давно философски преодолен, – это именно то, что не имеет смысла в философии Гюнтера, хотя сам Гюнтер и его школа придают ему самое большое значение. Это анахроническое восстановление давно преодоленной ступени не улучшается от того, что Гюнтер приписывает протяженной природной субстанции внутренность, ощущение, жизнь, душевность, самоощущение, чувственные идеи, понятия, волю, некое разумное мышление, даже неаутентичный аналог самосознания, и лишь отказывает ей в действительном самосознании эго-мысли и идеи. Таким образом, он избегает картезианского навязывания взгляда на животных как на бездушные машины; но тогда он уже не может избежать вывода, что преимущества человеческого разума над разумом животных являются лишь продолжением одного и того же принципа за пределы критической точки, когда они предстают как нечто качественно различное, не будучи таковыми по сути. Дуализм в мире может быть истинным, а дуализм между Творцом и миром – ложным; и наоборот, дуализм между Творцом и миром может быть истинным, а дуализм в мире – ложной видимостью. Оба дуализма не имеют ничего общего друг с другом. – Как и Бенеке, Гюнтер берет декартовское cogito ergo sum в качестве отправной точки своего философствования. Но если Декарт и Бенеке полагали, что могут постичь эго как реальное существо непосредственно в самом акте мышления, то Гюнтер достаточно благоразумен, чтобы признать, что это невозможно. По крайней мере, в конечном самосознании эго никогда не может постичь себя непосредственно как объект, но как неопосредованная субстанция лежит в основе всех опосредований, через которые разум поднимается от состояния бессознательности к сознанию. Ум оказывается ответственно детерминированным в том смысле, что его восприимчивость и спонтанная реактивность пробуждаются стимулами извне; он постигает свои внутренние состояния, о которых становится осведомленным, как то, что есть, но в то же время и как отличное от себя как их субстанциальный носитель и порождающее основание, то есть как объекты. Продвижение от внутренних состояний и объектов видимости к субъекту как субстанциальному основанию, которое их порождает, является, таким образом, выводом от данного следствия к его гипотетической причине. Вещь сама по себе является субстанциальным реальным основанием внешних эффектов, получаемых эго, в том же самом смысле, в каком эго является реальным основанием реакции. Поэтому и то, и другое – лишь гипотетические предположения для объяснения непосредственно данного и найденного, но не объекты непосредственного или аподиктически определенного знания.
Однако контраст между абсолютным эго и конечным эго Гюнтер ищет именно в том, что посредничество, необходимое для последнего, для первого опущено. То, что, согласно человеческому опыту, не относится к эго, как раз и должно относиться к божественному эго, непосредственному самовосприятию мыслящего субъекта в акте самосознания. Если конечное самосознание является чисто формальным (феноменальным, отраженным), то абсолютное самосознание должно быть реальным самовосприятием. Если конечное самосознание лишь открывает «я», то божественное самосознание призвано утвердить его непосредственно. Здесь заметно влияние Фихте; то, что Декарт ошибочно переносил на ограниченное эго человека, должно быть истинно реализовано в абсолютном эго. Но Гюнтер не указал, как он пришел к такому пониманию, хотя и утверждает, что оно аподиктически определенно. Вопрос о том, способно ли конечное, только развитое эго на такую абсолютизацию без полного упразднения своей концепции, он даже не задавал себе, поскольку был уверен, что сознание и самосознание в человеке – это совершенство, а все совершенства должны быть в высшей степени приписаны Богу. —