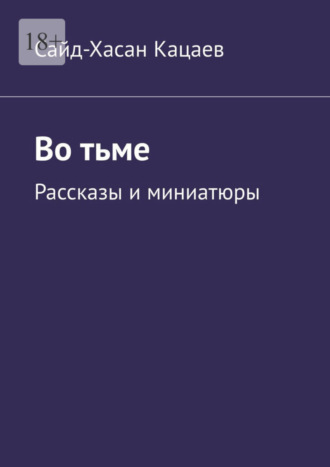
Полная версия
Во тьме. Рассказы и миниатюры
– К какой машине? Пошел вперед! – сказал он, стволом автомата толкая меня в спину.
Я пошел. Даже уложив одного-двоих, я не смог бы убежать. Большой двор бывшего МТС был обнесен двухметровым дувалом и сверху обтянут колючей проволокой. Повсюду техника, военные и часовые, готовые, в случае побега, пристрелить. Через дорогу, в бывшем Доме культуры, тоже расположились они. А на крышах, под защитными сетками, направив во все стороны бинокли, прятались снайпера.
Только я вышел, меня опять повязали. Надели на голову мешок и, забросив в кузов, повезли в сторону Грозного.
Меня беспокоило, что дома не знают, где я нахожусь. Распродав в городе яблоки и орехи, я купил детям кое-что из одежды и обуви и ехал домой, когда меня задержали на дороге. Дай Бог, чтобы ни один мусульманин не оказался в моем положении: связанный, как жертвенная скотина, с мешком на голове лежишь, как куль, и, чтобы ты не позвал на помощь, несколько стволов автоматов упираются тебе в спину и голову. Теперь они могли сделать со мной что угодно. Если даже родственники попадут на мой след и придут в комендатуру, у них на руках видеоматериал моего «освобождения» и подписанный мной лично протокол. Наверное, так они поступают со всеми своими жертвами. Ведь известно, что после жестоких истязаний, они вывозят трупы наших ребят где-то в поле или в лес, кладут перед ними автоматы, гранаты, пулеметы и мины. И в вечерних новостях показывают уничтоженных террористов. Самый высокопоставленный чиновник или военный, не моргнув глазом, лжет самым наглым образом.
Помню, в детстве я смотрел фильмы об отечественной войне. И когда немецкие офицеры мучили несчастных людей, старики говорили:
– Они показывают то, что сами творили, а приписывают немцам.
– Немцы во время затишья кричали из своих окопов: «Урус, кушать хочешь?» Какие у них были гордые и благородные офицеры! А то, что сейчас показывают по телевизору вранье. Они не опустились бы до этого.
Я тогда не понимал их: «На что только не способны грязные фашисты?», – думал я.
На что только не пришлось насмотреться за эти две войны? Военные раскапывают ими же замученных и убитых чеченцев и показывают по телевизору: «Эти люди убиты чеченскими боевиками, – комментируют они. – Видите их жестокость? Это нелюди!»
Я не раз слышал, что в Ханкале в ямах содержат много чеченских ребят. И самые отъявленные фашисты не додумались до тех изощренных пыток и зверств, применяемых к ним. Зная, что для чеченки позорно раздеться перед мужчиной, женщин (жен и сестер боевиков) ставят перед пленными чеченцами и рвут на них платья. А когда мужчины отворачиваются, их избивают и кричат: «Смотри! Смотри!». Мужчинам в самое срамное место засовывают тонкие трубочки и сквозь них пропускают электрические провода…
Во дворе Ханкалы наша машина остановилась пару раз. Мои глаза не были завязаны, и я сквозь мешок мог кое-что видеть. Что могло означать наше дальнейшее продвижение и взмахи рукой: отсутствие свободной площади? Видимо, ямы были переполнены. Когда машина остановилась в третий раз, меня скинули с кузова, как мешок с песком. Подошли двое солдат, взяли меня под мышки и сказали: «А теперь побежали». Я готов был ко всему. Внутренне скрепившись, я отдал себя на волю Всевышнего. «Наверное, меня волокут к яме», – думал я. Тяжело припадая на раненую ногу, я старался замедлить бег, чтобы сохранить голову от возможного удара об какой-нибудь камень. Возможно, это смягчит удар. Со всего разбега меня стукнули об какую-то трубу. Я не видел ее. Ударившись головой, я упал. Двое солдат и весь мир, сперва взорвались в моих глазах и мозгу, потом я потерял сознание.
С того дня, как меня стукнули об эту трубу, в моей памяти стали происходить провалы. Я ведь тебя знал. И читал твои рассказы. В 86 году я окончил филологический факультет пединститута. Часто, пытаясь кого-то вспомнить или рассказывая о чем-либо, я боюсь ошибиться. Особенно в фамилиях и именах людей, и где, когда и как мы познакомились.
Ты хочешь поехать домой. Тебе, конечно, лучше знать… Война еще не окончена. Каждый день, то в одном, то в другом селе происходят зачистки, репрессии. Стоит указать просто на человека, и его забирают, и сделанного не воротишь. Нашему народу довелось узнать, что 37 год был всего лишь присказкой. Тогда хоть, какой-никакой, но назначался суд, так называемой тройки. В сегодняшней Чечне не знают, что такое права человека.
Самое трудное – терпеть ложь и несправедливость. Несправедливость по отношению к твоему телу, к твоей душе. И власти, конечно, видят это и знают. Война не научила людей уму-разуму. В погоне за деньгами, у всех чуть ли не выскакивают глаза из орбит. Убитых, умерших, пропавших без вести быстро забывают.
Здесь мы на свободе. В наши дома не врываются солдаты и спецназ. Твоя семья с тобой, и тебе незачем беспокоиться. У нас на родине давно уже позабыли о больших идеях и мыслях о светлом будущем. Многие даже забыли, с чего все это началось, и ради чего. В то время, когда некоторые думают лишь о том, чтобы выжить, других заботят только деньги. Заработать как можно больше денег, думают они.
Нас привлекли мысли о свободе и независимом государстве. Но нас обманули. Бедный человек зависим и в собственном государстве, а богач независим и на чужбине. Народ потерял все ориентиры. Люди не знают кому верить. Но, только однажды побывавший в плену поймет, насколько нужно остерегаться всего. Если ты не можешь не ехать, живи в Грозном или Гудермесе. Там намного спокойнее, чем в селах. Если тебя и предадут, это будут твои односельчане. Берегись их. Встретившись где-нибудь, скажи, что пришел на побывку и на днях уезжаешь. Не ходи на базар, и места скопления людей тоже обходи. Никто не знает, с какой стороны, когда придет зло. Ночью спи, не раздеваясь, всегда будь начеку. Ты себе не представляешь, сколько людей они забрали прямо из постели. Если можно что-то сделать, отремонтируй свою квартиру и быстро устройся на работу. В республике выходят газеты, журналы и вице-премьеры те же…
Приходя в сознание, я думал, что, наверное, весь залит кровью. Но на мне не было крови. Вероятно, оттого что я целиком поручил себя Богу и был готов ко всему. В студенческие годы, в бассейне «Садко», я посещал секцию бокса, и тело мое было закалено, но голова моя раскалывалась…
Два дня провел я в Ханкале, распятый, словно на Голгофе. Только на руках, вместо гвоздей, были наручники. Как могут военные подвергать людей такой жестокости? То, что боксеры вытворяют с грушей мелочь, по сравнению с тем, как они мучают живых людей. Я бы не вынес еще одного дня. Наверное, умер бы…
Ты видишь, что они делают сегодня?
«Это чеченский террорист номер один», говорят они, и показывают его в позе ласточки. Сбрили голову и бороду. По коридору тюрьмы ходит вприпрыжку, низко наклонив голову, руки вытянуты высоко назад, ладони разжаты. В камере ему удобно, говорит он, дома невозможно было жить, постоянно взрывали. За живучесть его даже прозвали «терминатором». А здесь надежная охрана, еды вдоволь. Подчиняться требованиям надзирателей не зазорно, он, как бы чувствует себя курсантом. И одновременно показывают его «генеральские» провокационные речи перед строем боевиков. «Все русские должны быть уничтожены. Каждый чеченец пятнадцати-двадцати лет, должен готовиться к тому, чтобы стать террористом-камикадзе…» Но почему он сам не погиб?! Почему не дал возможности людям сказать: «Хоть и жил как негодяй, но умер как настоящий мужчина»? Настоящих мужчин и героев, кого не могут сломить, кто вышел на борьбу с чистыми помыслами, они убивают. Их не показывают по телевизору с повинной. Ведь легче показывать «героев», типа «терминатора». Они на весь мир говорят: «Видите, вот они, свободолюбивые чеченцы. А вот самый крутой из них». А кем он был на самом деле? Сами русские сделали его героем, чеченцы то воспринимали его как клоуна.
Все предводители чеченцев, с обеих сторон, были клоунами, артистами, двойными агентами и предателями. Именно они виновны во всех наших бедах…
Я не вернулся домой, и домашние бросились на поиски. Ни в комендатуре, ни где-либо еще меня не нашли. И не дали бы найти.
Некоторые из моих друзей работают кто в милиции, кто в охране. В первую войну нам довелось бегать вместе по горам. Сегодня они устроились на работу, не зная кому верить, и чтобы зря не погибнуть в этой неразберихе. Они охраняют полковника ФСБ, одного из знаменитых московских «воздушников». Теперь их называют бизнесменами. Он из Махачкалы позвонил в Москву Патрушеву, и по его приказу меня освободили.
Из-за моей комплекции друзья называют меня «Бычок». Но еще один день – и я не выжил бы. И сомневаться в том, что попавший в их руки не заговорит, не приходится. Поэтому через пару дней, после ареста кого-либо, они проводят массовые аресты. Может, и мои друзья боялись этого.
Когда мне повязали глаза и руки и усадили в машину, я опять подумал: «Ведут на расстрел». «В их власти меня расстрелять, но им не удалось меня сломить», – думал я. И в эту минуту это было главное. Хоть семья оставалась без отца, и дети не будут знать, где моя могила, я успокаивал себя тем, что я никого не предал, и на моих потомков не будут показывать пальцем.
– Пять минут не развязывай глаза, – предупредили меня, сбросив с машины. – Попытка к бегству – расстрел.
Один раз уже обманутый, я не поверил в их намерения.
«Сейчас будут стрелять», – подумал я.
Двигатель «Урала» сначала взревел, потом шум постепенно утих.
«Они уехали. Неужели, правда? Напоследок решили поиздеваться. Проверяют, что я буду делать. Чтобы посмеяться…»
Связанными руками я снял повязку с глаз. Они действительно уехали. Оглядевшись вокруг, я не узнал местности. Моросил дождь, был довольно неприятный день. И первое, что я почувствовал – был сильнейший голод. В жалких лохмотьях, голодный и избитый… Меня начало знобить. Я пошарил в кустах, в надежде найти бутылку из-под пива или водки. Необходимо разрезать веревку.
Вдали показалась военная колонна. Куда бежать со связанными руками? Все равно догонят. Только, казалось, выкарабкался из беды, как надвигается новая. Они запросто могли пристрелить меня и сказать, что я пытался заминировать дорогу. Кто с них спросит? Они издалека направили на меня оружие. Я не шевелился. Колонна остановилась рядом. Из первой машины вышел офицер, с БТРа соскочили несколько солдат.
– Ты что здесь делаешь? – спросил офицер.
– Меня только что выпустили из Ханкалы, – сказал я.
Они, ни слова не говоря, повернулись и направились к машинам.
– Командир! – крикнул я вслед. – Где я нахожусь?
– На земле! – злобно бросил он, оглянувшись.
Сев рядом с водителем, он указательным пальцем показал вперед. Колонна медленно двинулась. Я понял, что нахожусь недалеко от Ханкалы. Зубами и осколком стекла я развязал руки и вышел на дорогу.
Мне пришлось долго простоять. Никто не останавливал машину. Весь в крови, небритый, оборванный. Водители, видя в каком я состоянии, не смели остановить машину. На дорогах было много блокпостов, и они боялись из-за меня влипнуть в историю. И тогда я стал ждать автобуса, вышел на середину дороги и преградил путь. Автобус затормозил. Среди пассажиров было много женщин. Видимо, этот факт придал смелости и водителю. С ними я доехал до Аргуна. Там, у дальних родственников, привел себя в порядок: помылся, побрился, переоделся в чистое.
Дома, друзья повезли меня к тому человеку, чтобы я лично поблагодарил его за освобождение.
– Ты это сделал не ради денег. Денег у тебя много, – сказал я. – И если бы я предложил тебе деньги, какие в силах дать, то обидел бы тебя. Спасибо тебе большое. Да сохранит тебя Аллах от всех бед и напастей. Ты всегда можешь на меня положиться, в любом деле. Не подумай: «Что ты сможешь сделать для меня?». И маленькая мышь может оказаться полезной льву в нужную минуту. Я никогда не забуду то, что ты для меня сделал.
– Мне жалко вас молодых людей, – сказал он. – Вас обманула и предала эта власть. Вас не в чем винить. Вы были преданы своему государству и народу. Но подлая власть использовала вашу преданность в своих корыстных целях. Некоторые это поняли и отошли. Пожалейте свою молодость, пожилых родителей, свои семьи. Кроме вас, о них некому позаботиться…
Как раз в эти дни приехал домой двоюродный брат. Он и родные настояли, чтобы я на некоторое время выехал за пределы республики. Так я оказался здесь. Правда, если бы я попал в руки ГРУ, никто не смог бы освободить меня. Не помог бы и звонок из Москвы. Они, как ФСБ, не цацкаются с людьми. Вывозят на окраину села и расстреливают или убивают на месте.
Сайд-Хасан, с тех пор как голова не в порядке, у меня вошло в привычку много говорить нужное и ненужное, пока кто-то меня не остановит. Уже время намаза. Давай совершим джамаат?
2002
ФРАНЦ КАФКА
Эссе
Желание изобразить мою исполненную фантазий
внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое…
Ф. Кафка. Дневники (06.08.14) 1.
Как много значит в судьбе писателя (да и в успехе!) его смерть. Если бы Кафка при жизни опубликовал следующую мысль, то все смеялись бы над ним: «Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: „Он выглянул в окно“, то она уже совершенна» (19.02.11). А сегодня его жизнь, искания, борьбу с самим собой считают образцом писателя ХХ века.
При жизни только узкий круг оценил его творчество (даже родной дядя называл его произведения «чепухой»). Но после смерти автора, критики и исследователи творчества возвели его, чуть ли не в сан пророка.
«Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» («Процесс»).
В этом и подобном высказываниях он предвидел будущее (Гитлер, Сталин).
Считается, если хочешь узнать писателя, надо побывать на его родине. Я бы сказал: чтобы понять писателя, нужно читать его дневники.
К кому из писателей это относится более, чем к Кафке?
Когда писатель в силах изобразить свои мысли и чувства в художественных произведениях, в дневниках не бывает необходимости, и на это не хватает времени. Себя, свою жизнь, наблюдения, мысли, проблемы времени, все, о чем он хочет сказать, он изображает или описывает в повестях и романах (Гюго, Бальзак, Диккенс, Тургенев, Достоевский). У Льва Толстого и Ивана Бунина, писавших дневники до конца жизни, как правило, в период работы над художественным произведением, дневники либо вовсе отсутствуют, либо очень незначительны, типа, писал то-то, закончил то-то и т. п. Многие события и годы целиком включаются в то или иное произведение, изменив лишь имена и некоторые выражения. Например, если принять во внимание, что Толстой, работая над «Анной Карениной», описал свою жизнь в большом романе, то нам станет понятна бедность дневников писателя этого периода. Первые годы семейной жизни, может быть, самые счастливые в его жизни. А такие рассказы Бунина как «Последняя весна», «Последняя осень» и некоторые другие целиком взяты из дневника.
Кафка не является исключением из этого ряда. Многие его рассказы вошли в книги прямо из дневников. В том числе и странные рассказы и притчи.
Раскольников Достоевского («Преступление и наказание») взял топор и пошел убивать старуху после того, как понял, что Наполеон или Ротшильд из него не выйдет, и не найдя другого пути, как помочь людям. Свое решение он оправдывает тем, что смерть старухи никому не причинит горя, наоборот, многих избавит от необходимости выплачивать проценты. А он на деньги, которые без всякой пользы лежат в сундуке старухи, сделает много полезного людям.
Достоевский смог создать образ Раскольникова вследствие трудностей и бедной жизни, выпавшей на его долю в молодые годы. Это свои мысли, приведшие его к революционерам, он позже передал Раскольникову.
Кафка начал вести дневник, когда он понял, что ему не стать Наполеоном или Шекспиром, и он никогда не сможет написать те романы, которые мечтает создать. Ведение дневников для Кафки – стремление хотя бы в них сохранить себя в веках.
«Я больше не оставлю дневник. Я должен сохранить себя в нем, потому что только в нем мне это и удается» (16.12.10).
То, что писатель боится смерти и думает о своей дальнейшей судьбе, видно и из следующей записи: «Я совершенно отчетливо пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего моего тела» (19.12.10).
Творчество Достоевского потрясло Кафку. В образах мелких чиновников, изображенных Достоевским, он увидел себя, свою несчастную жизнь. Поэтому так сильны в творчестве Кафки мотивы произведений русского писателя, влияние которого он ощущал всю свою жизнь.
О гимназических годах Кафка пишет: «Я, разумеется, замечал, это было очень легко, что одет скверно, видел, когда другие были хорошо одеты, но ум мой многие годы не мог постичь, что причина моего такого облика кроется в моей одежде. Поскольку уже тогда я – больше в предчувствии, нежели в действительности, – был на пути к тому, чтобы ценить себя невысоко…» (31.12.11).
Кафка всю жизнь мучил себя и близких тем, что искал, скорее, внушал себе болезненное состояние, которое владело Достоевским. Это душевное состояние он с огромным талантом передал почти всем своим главным героям. Автор и его герои очень близки Кафке. В одном месте он говорит, что герои Достоевского не больны, а очень даже умны (20.12.14).
«…я …обладаю сильной способностью к превращениям, которую никто не замечает» (30.09.10).
«…я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит» (21.11.11).
«Бесспорно, что главным препятствием к моему успеху, является мое физическое состояние» (22.11.11).
«Я стремлюсь работой излечить свою неврастению» (02.05.13).
Кроме целого ряда перекличек в изданных произведениях Кафки с творчеством Достоевского, мы и в его дневниках находим несколько заготовок к рассказам, напоминающим «Преступление и наказание».
Рассказ о студенте, который с определенными намерениями пришел к известному коммерсанту в гости, и при первой же возможности силой врывается в его квартиру. (Запись обрывается. 24.11.13.)
Другая запись напоминает мятущегося Раскольникова после убийства старухи. (Сон под кустарником. 09.12.13.)
«Мой брат совершил преступление, мне кажется – убийство, я и другие замешаны в этом преступлении… чем ближе наказание, тем сильнее мое сумасшествие…» (20.10.21).
Эти сновидения напоминают размышления Ивана Федоровича из «Братьев Карамазовых», после убийства одним из братьев собственного отца. Наиболее сильные места из Достоевского где-то отложились у Кафки в подсознании и высвечиваются, когда он садится писать.
Сны занимают большое место в жизни и творчестве Кафки. Ряд рассказов создан у него прямо из снов. Оттуда и фантастичность, и символизм его прозы.
В произведениях Кафки, как и в сновидениях, сплелись воедино: правда и вымысел, реальное и нереальное, то, что могло случиться, но не случилось, надежды и воспоминания, то, о чем мечтал, чего боялся и, конечно, влияние прочитанных книг.
Если Лу Синь прямо обозначает в своих миниатюрах: «Я видел сон», то у Кафки это определение снято. Именно это и делает его рассказы загадочными и притчеобразными.
Кафка страдает бессонницей, много работает над снами и мечтает поскорее заснуть по двум причинам:
1) не видя настоящего мира, он не знает жизни и насущных проблем людей: «Сплю, просыпаюсь, сплю, просыпаюсь, жалкая жизнь» (19.06.10). Ему хочется писать, и он мучается отсутствием сюжетов. Он глубоко заблуждался, считая, что писателю нет нужды выходить из дому. Достаточно сидеть за своим столом и прислушиваться. Даже не прислушиваться, а ждать. «Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе…»;
2) ему легче работается над снами: «Было бы большой радостью писать автобиографию, потому что, она легко писалась бы, как и сны…» (16.12.14).
По этой же причине и в письма, подобно Г. Флоберу, он вкладывал всю душу. Хотя бы в них пытаясь дойти до мечты. Желая оставить в литературе свой памятник (26.02.12).
Творчество напрямую связано с образом жизни и характером писателя. Если бы Кафка нашел в себе силы оставить свою тихую канцелярию, и устроился бы на какой-нибудь завод рабочим, мы бы, вероятно, знали совершенно другого писателя. Не хватило у него духу и на то, чтобы, как Горький или Гамсун, пойти «в люди», тем более что он не считал себя обязанным перед родителями и не играл существенной роли в бюджете семьи.
Правда, понимая, что любые изменения в жизни положительно сказались бы на его творчестве, в одно время он хотел пойти в армию, хотел даже попасть на войну. Но и из этого ничего не вышло.
Он жил как в замкнутом кругу, пытаясь вырваться, вернее, мучая себя тем, что надо бы вырваться из него, и не обладая для этого необходимой волей. Не смог он оставить и «теплое местечко», не зная, что ожидает его в будущем.
В своей слабости, безвольности Кафка готов был обвинить родителей: «Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне» (19.07.10).
В знаменитом «Письме к отцу» (1919) он утверждает то же самое. Но Франца, при всем уважении к его творчеству, и самого нельзя назвать хорошим сыном.
О родительских надеждах на свой счет он пишет:
«Родители, ожидающие от детей благодарности (есть даже такие, которые ее требуют), подобны ростовщикам: они охотно рискуют капиталом, лишь бы получить проценты» (12.11.14).
Бернард Шоу пишет в своей «Автобиографии», что, будучи молод и здоров, он был настолько мудр, чтобы не бросаться на борьбу с жизнью. Вместо этого он бросил в нее мать. «Вместо того, чтобы быть помощником отцу, я, наоборот, жил, зацепившись за его брюки».
По этому поводу «весь наполненный литературой» Кафка пишет: «Я веду какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив, чтобы следовать за Шоу…» (26.10.11).
Шоу верил в свой гений, поэтому, предвидя большой успех, был так смел.
Кафка не верил в собственный талант и постоянно сомневался в своих силах.
«Ничего не довожу до конца, потому что у меня нет времени, и все во мне теснится. Долго ли я выдержу? И разве у меня появится время?» (17.10.11).
«Я хочу писать, ощущение непрерывного подергивания на лбу» (5.11.11).
Думать, что будь свободное время, он бы многое написал – значит обманывать себя. Иногда, хоть на мгновение, он понимает это: «…я должен только остерегаться, как бы не освободить все время для литературы… я не способен использовать все время для литературы» (14.12.11).
Условно, писателей можно разделить на две группы:
1) романисты – Дюма, В. Скотт, Купер, Теккерей, Золя, Голсуорси, Фейхтвангер, Фолкнер, Пикуль, Сименон;
2) и писатели, которые могут писать только о себе или на основе личных воспоминаний – Тургенев, Флобер, Бунин, Вулф, Бабель, Хемингуэй, Экзюпери, Трифонов, Моэм, Довлатов.
Первые, при малейшей возможности зацепиться, пишут о чем угодно. (Это не значит, что они более талантливы или менее. Речь идет об индивидуальности писателя и его творчества.) Вторые не пишут о том, чего не знают, чего не испытали. Каждое предложение дается им с трудом. Сам процесс писания доставляет им настоящие муки. Больше, чем писать, они любят рассуждать, о чем пишут.
Кафка относится ко второй группе. К высшей ступени этой группы. «…физическая невозможность писать, и внутренняя потребность в этом» (02.05.13). «Все противится тому, чтобы быть записанным» (20.10.13).
Несколько лет назад, когда редактора отказывались от моих рассказов и настоятельно рекомендовали прочитать Кафку и Маркеса, я прочитал один рассказ Кафки из хрестоматии для студентов. Чтобы посмотреть, о чем и как они пишут. Их книги очень трудно было найти. Да и вряд ли бы я, со своими тогдашними литературными вкусами, прочитал их. Мне нравились писатели совсем другого склада.
Франц Кафка. «Стук в ворота».
Удивительно, как я тогда, совершенно не зная Кафку, сумел так точно понять суть и «секрет» рассказа. Это был сон. Об исканиях «больного» писателя, страдающего тем, что он хочет и не может писать.
«У меня нет больше сил написать хоть одну фразу» (27.12.10). «Ровно три дня ничего не писал» (30.11.11). «Когда я после некоторого перерыва начинаю писать, я словно вытягиваю каждое слово из пустоты. Заполучу одно слово – только одно оно и есть у меня, и опять все надо начинать сначала» (13.12.11).
Оттуда и в Чечню пришла мода на «ночь, когда не пишутся стихи» и т. п. Из больного, страдающего бесплодием писателя совершенно здоровые люди создали кумира не только себе, но и старались внушить это другим.
Из таких же страдающих был и мой товарищ Идиев Замбулат, выпускник Московского литинститута. Писать должно было быть его работой. Равно, как и инженера – строить. Но Замбулат не писал, задаваясь вопросами: «Зачем писать? Для чего?» Это не означало отсутствие таланта. Вместо того, чтобы научить писать, пять лет в институте его приучили не писать. «Не пиши, если можешь не писать». Это же упадочническое настроение я наблюдал и у других выпускников литинститута – Маадуллы Завриева и Ислама Эльсанова.



