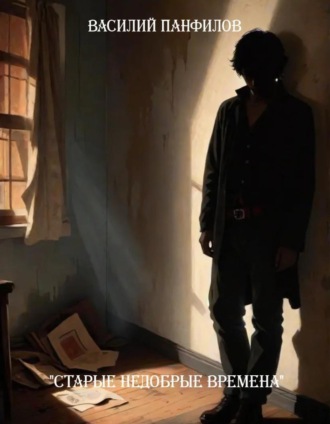
Полная версия
Старые недобрые времена – 1
… но впрочем, бойкие.
Следы войны видны решительно везде! Это и воронки, и чугунные осколки ядер, и собственно ядра, не разорвавшиеся по какой-либо причине, и одежда детей, перешитая из солдатских мундиров, будь-то трофейных, или, быть может, доставшихся в обмен на водку от солдата, жаждущего забыться во хмелю и решительно не желающего думать о последствиях.
На улице только дети и старики, провожающие Ваньку долгими взглядами, но не пытающиеся ни помешать ему, ни помочь, ни завести какой-то разговор. Он, впрочем, и сам не пытался, спеша через предместье с чувством какой-то неловкости.
Постепенно предместье стало больше походить на город, домики стали побольше, поаккуратней, а потом, как-то вдруг, как это часто бывает в Севастополе, с его гористой изрезанной местностью, пошли двухэтажные дома, и улицы с тротуарами, и не то чтобы толпы, но всё ж таки достаточно многочисленный народ. Всё больше, разумеется, военные во всяких чинах, спешащие по своим делам, ожидающие невесть чего с деловитым видом возле повозки, или просто, усевшись в сторонке с трубочкой, взирающими на городскую суету с благодушным видом.
Солдаты в серых, давно и безнадёжно выцветших, застиранных мундирах, шитых из самой дрянной ткани, какую только может достать вороватый интендант. Если бы не выправка, не амуниция, не оружие, то чем не нищенские рубища! Оружие, выправка, дисциплина, да пожалуй, некое единообразие и заставляет выглядеть армию – армией, а не сбродом.
Матросы в чёрном, и они не то снабжаются по другому ведомству, не то, быть может, используются на более чистых работах, но выглядят они поприглядней, да и ведут себя бойчей.
Мирных жителей где больше, где меньше, но впечатление военного лагеря не оставляет решительно нигде!
Обходя повозку купца-караима, остановившегося по какой-то нужде посреди улицы, Ванька едва не споткнулся об окровавленные носилки, небрежно валяющиеся на мостовой. А обойдя играющих детей, у которых, среди игрушек, имеется сабельный эфес и очевидно трофейные аксельбанты, наткнулся на группу рабочих солдат[3], бредущих вдоль по улице вслед за унтером.
Везде, решительно везде, следы военной разрухи, будь то воронки, сгоревшее здание, запятнанная осколками стена, солдаты и матросы с оружие, в окровавленных повязках. Пахнет дымом и золой отгоревших пожаров, порохом, углём, конским потом и навозом, а ещё, разумеется, морем!
Но здесь же и барышни, нарядные и не думающие, кажется, ни о какой войне! Щебечущие с подружками, флиртующие с кавалерами…
… и какая там война, какие бомбы!
Гулко ахнул снаряд мортиры, попав в цель, и дом неподалёку осыпался, не выдержав веса упавшей с неба многопудовой чугунины, а потом ахнуло ещё раз, изнутри, и дом сложился, рассыпался…
– Да что ты мечешься как заяц! – отпихнулся от Ваньки продавец сбитня, ведущий себя так, будто не произошло ничего.
– Сбитень! – заорал он, сам похожий на самовар, с такой же пузатенькой, низенькой фигурой и медно-багровой щекастой физиономией, – Горячий сбитень!
А дом уже разбирают солдаты, и один из офицеров уже занимается спасательной операцией…
… и девушка в розовом платьице, запнувшись, быть может, на миг, перепрыгнула через воронку и продолжила тот важный женский разговор с подружками, прервать который не может даже обстрел!
– Пужливый какой, – небрежно отозвалась о Ваньке разбитная бабёнка, торгующая здесь пирожками невесть с чем, и тут же, отвернувшись от него и забыв, заговорила с товаркой, не забывая время от времени оглашать окрестности чаячьими призывными воплями.
Ванька, заалев ушами, поспешил прочь, и ему казалось, будто решительно все глядят ему, осуждающе, вслед, хотя на самом деле, никому до него и дела нет…
Обходя то груду булыжника, то воронки или повозки, приходится иногда возвращаться назад или обходить препятствие проулками. Впрочем, наткнувшись раз на группу шалых матросов, опасно, по его мнению, оживлённых, и способных пожаловать в рыло на раз-два, а то и одолжить, без возврату и желания на то одалживателя, на табачок и прочие матросские нехитрые нужды, в переулки Ванька больше не совался.
Вскоре показался большой, римского образца дом, с римскими же цифрами и лепниной на фасаде, изрядно подпорченном следами снарядов и огнём. Перед домом толпа народа, среди которых и купцы, и какие-то, очевидно, мастеровые, и офицеры.
Последние часто имеют вид просительный, жалкий, или же фаталистический, смирившийся. Некоторые, впрочем, свирепо раздувают ноздри, и, сняв перчатку с одной руки, с оттяжкой бьют себя по другой, представляя, наверное, физиономию одного из интендантского племени.
Как этот просительный вид и неумение отстоять своё, притом то, от чего напрямую зависит жизнь как самого офицера, так и солдат во вверенном ему подразделении, сочетается со штыковыми, с терпеливым стоянием под бомбами, с ежедневной и ежечасной опасностью, Ванька понимает плохо. Но он, несмотря на память, доставшуюся от реципиента в полном объёме, многого не понимает…
Заранее сдёрнув картуз, чтобы не попасть, как это уже бывало, под горячую руку, крепостной покрутился у входа, не приближаясь, впрочем, к толпе, и, после короткого размышления, просто обошёл дом стороной. Поглядев, не идёт ли кто, он легко перемахнул через пролом в стене, расположенный примерно на уровне груди, и оказался в запущенном, а вернее сказать, в разорённом саду, сразу наткнувшись на нужную персону.
– Доброго здоровьичка… – зажав картуз в руке и выпустив наружу лакея, Ванька закланялся, заговорил нужное…
… но не вышло.
– Пошёл прочь! – отмахнулся от него интендант, тут же, не дожидаясь его ухода, пожаловавшись собеседнику, не понижая голос.
– Такая же, по всему видеть, скотина, как его господин! Он…
… и хотя Ваньке было бы интересно, да и, наверное, полезно, узнать что-то о прошлом своего хозяина, но увы. Мордастый, под стать хозяину, денщик, подскочив к парнишке, весьма сноровисто врезал ему куда-то в район желудка, а после, ухватив за ворот, проволок через весь дом, скинув с парадного крыльца.
Полетев едва ли не кубарем, Ванька всё ж таки не упал, и, пробежав с десяток шагов, уткнулся в чьи-то колени, едва не сбив человека. Сверху рявкнуло начальственно, а потом сильная рука вздёрнула его за шиворот, и перепуганный холоп оказался перед лицом начальствующим, судя по эполетам, генералом.
– Кто… – начал было тот, наливаясь праведным начальственными гневом, встряхнув Ваньку за ворот и пристально вглядываясь в перепуганное лицо.
– Вот! – усмехнувшись, генерал развернув лакея, толкнув его под ноги худого офицера, – Просил? Получи! Вот тебе и подкрепления, вот тебе и рабочие руки!
– Вашество… – пискнул Ванька, напуганный и ситуацией, и пуще того, перспективами, но попытка сказать что-то была прервана ударом приклада в душу…
– Не перечь Его Высокоблагородию! – рявкнул унтер, прикладом пихая Ваньку в конвоируемую толпу.
Насколько это законно, и какая власть у военных в осаждённом городе, можно много и вкусно рассуждать, находясь вне его. А так…
… винтовка рождает власть!
Ну и, разумеется, злоупотребления…
Глава 2
Шестой Бастион, зуавы, госпиталь
Подтащив к стене рогожный куль, туго набитый сухой глинистой землёй пополам с мелкими камнями, и опустив его на землю, Ванька с трудом выпрямился, переводя дух, а потом, с силой уперевшись руками в поясницу, прогнулся назад, пытаясь унять болезненное ощущение в схваченной судорогой спине. На какие-то секунды помогло, но почти тут же спина заныла снова, плаксиво грозясь грыжами, смещением позвонков и прочими неприятностями, на которые всем, кроме самого Ваньки, плевать.
На руки, с давно и безнадёжно сорванными мозолями, запекшейся под ногтями кровью, беспрестанно артритно ноющие, с гноящимися, воспалившимися царапинами, он старается не смотреть. Рукавиц не полагается – то ли вообще, то ли привлечённым к работе горожанам, то ли, быть может, персонально ему.
Вопросов задавать тоже не полагается. Спросив о рукавицах, он получил символический тычок в клацнувшую челюсть, притом, что показалось ему вдвойне обидней, даже не от унтера, которому он задал вполне резонный, как думалось, вопрос, а от немолодого солдата, приятельски беседовавшего с оным.
Они, рукавицы, так-то есть… но их то ли не хватает, то ли, быть может, солдаты и матросы, составляющие гарнизон Шестого Бастиона, предвидя возможные трудности с поставками, берегут их для себя. А быть может, они видят некую справедливость в том, что горожане, будучи не комбатантами и лицами, временными на передовой, должны претерпевать некие трудности, находиться здесь, на бастионе, в заведомо худших условиях.
Логика у людей военных, воюющих, находящихся на самом острие опасности, и потому обглоданных ПТСР[4] до, наверное, костей черепа, может быть непонятной и даже неприятной человеку гражданскому. Понимая это, Ванька, тем не менее, не имеет ни малейшего желания становиться ни пресловутой отлетевшей щепкой, ни частью исторического перегноя, ни как-то ещё жертвовать собой, своим здоровьем и будущим, а тем более, без малейшей на то необходимости, а только лишь по чьей-то странной прихоти.
– Ну, – прерывая отдых, грубо сказал ему напарник, кряжистый, низкорослый рабочий солдат, сутуловатый и привычный к тяжкому труду, – што встал? Эт тебе не ложки после барина языком полировать, эт…
Но Ванька, не дослушав его, не слушая привычные уже оскорбления, заспешил навстречу флотскому лейтенанту, идущего по бастиону в сопровождении парочки матросов.
– Ваше благородие! – с ходу начал паренёк, вставая навытяжку перед командиром бастиона, – Я человек гражданский, крепостной слуга поручика Баранова, и…
Он успел заметить, как морщится лейтенант… и вот уже, сидя на сырой земле, видит удаляющуюся спину во флотском мундире, а в голове гудит, как в трансформаторе. Послышались обидные смешки, подколки и язвительные комментарии – воякам, и, кажется, некоторым горожанам, ситуация показалась забавной.
Не сразу поднявшись на пошатнувшиеся ноги, потрогал рукой саднящее ухо, совершенно не удивившись обильной крови.
– Ну, понравился тебе ответ Его Благородия? – напарник, подойдя поближе, насмешливо оскалился, и, достав трубочку, начал раскуривать её, пуская дым в лицо, – Поня́л, или мне, значица, повторить?
Не отвечая, Ванька побрёл в сторону мешков, хотя после такого учения ему бы, по хорошему, на больничный денька на три уйти… но реалии здесь, в Российской Империи, вот такие вот, когда чуть что, и в морду!
Скидок на травму, на возраст, на худосочность и на что бы то ли было ещё, ни ему, ни кому бы то ни было другому, никто не делал. Солдаты, матросы и горожане работали с полной отдачей.
Как он сам продержался до позднего вечера, как не упал в обморок, как…
… и вечером, разумеется, никто не отпустил его, хотя некоторые горожане, как он заметил, спокойно разошлись по домам.
Щурясь воспалёнными глазами, в которые за день многажды раз попадала земля, Ванька неловко, полубоком, пристроившись перед неровным земляным выступом, на котором он кое-как поставил выданную миску, ест, черпая похлёбку дрожащими руками и наклонившись пониже, чтобы не расплескать ничего.
– … ты, малой, не гневись ни на Бога, ни на людей, – жужжит под ухом бодрый ещё старикан, поучая жизни, – Подумать ежели как следоват, так ты и сам виноват! Ну кто вот так вот, как ты, поперешничает? Да ты не зыркай, не зыркай… а то ишь!
– Я… – прервавшись, старикан начал раскуривать трубочку, – Я давно живу, и свет повидал так, как ты себе и представить не могёшь! Поперешный ты, парнишка, поперешный! Ох и тяжко тебе будет, ох и тяжко…
Он даже закрутил головой, закатывая глаза и как бы показывая этим, как тяжко придётся Ваньке.
– Небось, при прежнем барине, как сыр в масле катался? – прищурился старик, не дожидаясь ответа, – А сам ён, ну как ты сам, токмо постаревший, хехе…
Не став отвечать, Ванька, чуть повернувшись, только улыбнулся кривовато. Он и так то, в виду воспитания, не стал бы посылать старого человека так далеко, как хотелось бы, так ещё и ложка одолжена Матвей Пахомычем, и говорит он, быть может, так, что аж в мозгах зудит… но так ведь и не со зла! Добра желает человек… так, как понимает его.
– Байстрюкам, – со знанием жизни продолжал рассуждать старикан, окутывая Ваньку клубом на редкость вонючего самосадного дыма, – и так-то в жизни непросто! Они, болезные, за грехи родителей своея жизнью отвечают, так-то!
Как уж там нагрешила давно помершая Ванькина крепостная мама, не имевшая выбора, Бог весть. Спорить он не стал, осторожно кусая чёрствый, тяжёлый, глинистый хлеб и сёрбая жидкую похлёбку, отдающую не то землёй, не то просто сваренную на подгнивших, подпорченных продуктах.
– А ты, небось, рядышком с барчуком рос, – разглагольствует проницательный старикан, – Эт оно сразу видать! А потом, значица, повернулось всё иньше, и ты уже не наособицу, а как все, только што ещё хужей! Ты ж, малой, наособицу привык, высоко себя держишь, а народ, ён такого не любит.
– Ты смиренней будь, смиренней… – ещё раз пыхнув, старикан задумался, – Да молись почаще, вот так вот! Николаю Угоднику самое первое дело, скажу я тебе…
Солдаты и матросы, оставив только часовых, устало разбрелись по казармам, которые здесь, на Шестом Бастионе, в виду главенства флотских, называют кубриками. Бытом горожан должны были озаботиться они сами, и, в общем-то, они справились, прихватив с собой на Бастион и баклаги с водой, и какую-то одежду, и всё, что им было нужно.
Здесь, в осаждённом Севастополе, с нехваткой всего и вся, с самым дурным управлением войсками и воровской властью интендантов, зарабатывающих деньги буквально на крови солдат и обывателей, все уже привыкли надеяться, насколько это вообще возможно, только на себя.
Ванька устроился на рогожных мешках, сложенных близ одной из земляных стен под плохоньким навесом, и, чтоб была хоть какая-то защита от ночного холода, накинул их на себя, сколько смог. Сон между тем не шёл, и он весь извертелся, пытаясь найти положение, в котором спина не будет ныть так сильно, но тщётно.
Усталость страшная, обморочная, но заснуть никак не получается, а в голову, не ко времени, полезли дурные мысли.
«– Мне здесь не нравится всё, и настолько всё, что сил просто нет… – горячечно, обрывочно думал он, стараясь, раз уж всё равно не спится, хотя бы мыслями отгородиться от ноющей боли в мышцах, сорванных ногтей и больной головы, – Вот что я защищаю здесь, на этом бастионе? Пусть даже не по своей воле, пусть… но ведь защищаю!
– Это не моя война, но даже так, попавший сюда, в это время, да и на бастион, без своего желания, я сочувствую, сопереживаю, чувствую некую сопричастность. Чёрт… даже это, как там его? Ла – ла-ла… Севастополь останется русским! Нет, не помню… а давят ведь эти строки, пусть даже и забытые, на патриотизм! Строки забыл, а впечатления от них, слышанных в детстве, остались…»
Он начал было дремать, но, пошевелившись неловко, ерзанул натруженными мышцами спины и снова проснулся, и снова непрошеные мысли…
«– Есть чувство сопричастности, есть… – вяло думал он, – Не такое, наверное, острое, как было бы в Великую Отечественную, но есть!
– А война с Наполеоном? – задумался попаданец, – Да, наверное! Хотя казалось бы, крепостничество и всё такое… а всё равно, народная война! Пропаганда, или…»
Дойдя в итоге до Гросс-Егерсдорфа, Кагула и прочего, решил для себя, что, наверное, отчасти пропаганда, а отчасти – просто времени прошло слишком много, и сознание просто отказывается воспринимать эти времена, ассоциировать те битвы и завоевания с чем-то нужным, с полезным. С Родиной.
Он заснул наконец, но спал плохо, тревожно, и снилась ему всякая дрянь, да и что может сниться под нечастый, но всё ж таки пересвист пуль и баханье пушек, когда настоящее мрачно, а будущее, покрытое туманной пеленой, видится зыбкой тропкой на болоте…
Потому, когда на него уселся кто-то, он, не просыпаясь толком, среагировал резко, отпихнув вместе с покрывавшей его рогожей русского солдата…
… мёртвого.
В обрывистом свете костра, горящего в десятке шагов от него, в мерцающих на ветру факелах, в неверном свете звёзд, под мертвенно-бледной луной, убитый, с мученически искажённым лицом, судорожно схватившийся за рукоять торчащего из груди ножа, страшен и одновременно сюрреалистичен, почти невозможен.
А на Ваньку, ещё сонного и ни черта ни соображающего, навалился уже француз, бешено скаля нехорошие зубы. Сжимая одной рукой горло и пытаясь коленом удерживать Ваньку на месте, давя ему на грудь, свободной рукой он нашаривает тесак, сбившийся в пылу борьбы куда-то назад.
Не в силах вдохнуть, не понимая толком, явь это, или сон, Ванька вяло и бессмысленно трепыхается, и наверное…
… но циновки под ними разъехались, и француз, пытаясь обрести равновесие, ненадолго отпустил горло, дав ему вздохнуть и опомниться.
Судорожно хватая воздух и вспоминая свой недолгий, и, в общем, не слишком удачный опыт занятий смешанными единоборствами в секции при университете, Ванька, уже снова схваченный было за горло, ухитрился-таки сперва сбить руку, а потом, не иначе как чудом, перехватил её на излом.
Вышло скверно, и француз, имея ещё более низкий класс борьбы, имеет абсолютное превосходство в весе и силе, ну и, разумеется, в опыте сражений насмерть, в умении и привычке убивать. Он начал выворачиваться, напрягая все силы, и Ванька, чувствуя, что вот-вот проиграет, уже почти сдался, бессмысленно шаря руками по телу, пхаясь коленями и забыв почти всё, чему его успели научить в секции.
Однако, кое-чему всё-таки научили… Когда француз, уже по сути одержавший победу, на какие-то мгновения оставил борьбу, снова ухватившись за привычный тесак, Ванька исхитрился-таки в отчаянном усилии перехватить вооружённую руку, резко, как только возможно, вывернуть её на излом, и перехватить тесак за отнюдь не бритвенной остроты лезвие.
А потом, не слишком отдавая себе отчёт, он неловко не столько воткнул, сколько надавил на тесак, перехватив его наконец за рукоять и вгоняя в бок француза, снова и снова надавливая и проворачивая оружие. Конвульсивные дёрганья Ванька принимал за борьбу, и расковырял, наверное, весь живот уже мёртвому врагу, а потом, не вполне соображая, что делает, отбросил его с себя и откатился от стены, вскакивая на ноги.
Встрёпанный, окровавленный, сжимая тесак, покрытый кровью, клочками французского мундира и кусочками мёртвой плоти, он пребывал в том пограничном состоянии, когда только бежать…
… и вперёд, или назад, право слово, не слишком важно!
Завидев французов, хозяйничающих на бастионе, и мёртвые тела оплошавших часовых, и назойливого, зудливого старикана Матвея Пахомыча, улёгшегося спать неподалёку, и теперь лежащего в тёмной луже собственной крови, с горлом, разваленным до самых позвонков, Ванька замер было, мельком глянув назад, на циновки, в которые можно, наверное, закопаться и пережить…
… а потом его будто что-то толкнуло, и он, обмирая от смертного ужаса, от неминуемой, уже приближающейся смерти, заорал надрывным хриплым голосом, изо всех сил надрывая связки.
– Тревога! Французы на бастионе!
Почти тут же, секунды не прошло, один из них напрыгнул на него, делая дьявольски быстрый выпад ружьём!
Каким чудом отразив его, отчасти уклонившись, а отчасти парировав тесаком, Ванька и сам не понял. Но, как делал это много раз на тренировках с барчуком, отбил ружьё плоской частью лезвия, извернувшись всем телом, скользяще шагнул вперёд, и сделал, в свою очередь, выпад, разрубив зуаву горло.
А дальше…
… дальше он прыгал, падал, отбивал и рубил, но сам дьявол, наверное, не помог бы Ваньке вспомнить, что же он делал!
Были только обрывки, только эмоции, непрерывное движение, хриплое дыхание… и как он потерял или выбросил тесак, и отбивался дальше уже французской трофейной винтовкой – убей, а не вспомнит!
Убил ли он кого-то ещё, ранил ли кого-то, или может быть, выручил одного из защитников бастиона, отбив предназначавшийся тому удар, неизвестно. Сам он ни черта не помнил… и не вспомнил потом, да может быть, и к лучшему.
А пока…
… отбили.
Сколько уж там потеряли солдат и матросов, сколько вырезали гражданских, Ванька не знал, да и никто не спешил к нему докладом. Здесь, вокруг, мёртвых тел, и русских, и зуавов, предостаточно, но что там на других участках Бастиона? Бог весть…
Последние защитники Бастиона выбегали из кубриков, когда всё уже закончилось, но, взбудораженные, то ли по собственной инициативе, то ли по приказу командиров, начали весьма шумно проверять все закутки, не иначе как ища спрятавшихся зуавов, а после даже сделали вылазку вперёд Бастиона. Нужно ли всё это было, или нет, Ванька не знал, да и не думал об этом, сидя в оцепенении на земле, подтянув ноги к подбородку и обхватив их руками.
– Эй! – его довольно-таки бесцеремонно пхнули сапогом в бок, – Живой? Што расселся-то? А ну, живо…
– … да ты никак поранетый? – спохватился наконец матрос.
– Н-не знаю, – вяло отозвался Ванька, чувствующий себя так паршиво, как никогда в жизни, как не чувствовал даже после порки в поместье, после которой он на три недели слёг в горячке.
– Ну, живой, и слава Богу, – потерял к нему интерес матрос, поспешив к товарищам.
На Бастионе тем временем наводят порядок, а потом начали куда-то бахать из пушек, не частя, но и не слишком редко. Действительно ли французы пытались, имея в авангарде зуавов, подобраться для атаки к Бастиону, или стреляли, что называется, «для порядку», Ванька не знает, и, признаться, ему это решительно неинтересно…
После всех этих событий, хапнув впечатлений и адреналина, наложившихся на скверное самочувствие, его догнал-таки отходняк, и безразличие ко всему, в том числе и к собственной судьбе, окутало его, подобно толстому одеялу.
* * *В расположение поручик Баранов возвращался в самом что ни на есть гадостном расположении духа. Вот попадись ему турок, или зуав, или британский солдат, так располовинит, ей-ей! А пока, не неимением поставленных перед ним врагов Отечества, Его Благородие вымешает досаду на бурьяне, фамильной саблей рубя его в песи! В хузары!
Валятся на пыльную землю пыльные, сухие прошлогодние стебли, напояя воздух горьковатым ароматом. А поручик, свирепо раздувая ноздри, всё не унимается, войдя в воинственный раж и распаляя обиду.
– Всякая блядь… – начал было он, но споткнувшись о камешек, чуть было не упал, отчего вынужден был прервать свой, без сомнения, интересный и содержательный монолог.
Забыв, о чём говорил, обругал камешек, с силой пнув его носком сапога, а потом досталось дороге, военным строителям, Меньшикову и Горчакову, сослуживцам и солдатам под его началом…
… быдлу, которое не понимает, в силу скудомия, как ему, быдлу, повезло дышать одним воздухом с ним, поручиком Барановым! Если бы не всякие завистники…
– Блядь всякая будет фанаберится, – переключился он на больное, – В долг она, видите ли, давать не собирается, и вообще – давать! Мне! Ишь… а кто тебя, блядь, спрашивать будет?! Жёлтый билет есть, вот и изволь… защитников ублаготворять! Мы здесь Россию защищаем, а эта…
Сплюнув, он пошёл дальше на неверных ногах, расставив их, чтоб шатало не так сильно, в широкую матросскую раскоряку, и, идя по шатающей дороге, заполняя её всю, почти без остатка. Изредка, чтобы не упасть, опирается на клинок, что, без сомнения, выглядит очень благородно и воинственно, поскольку показывает, что он не какой-нибудь шпак с тросточкой, а Защитник Отечества! Воин!
Не побывав ни разу ни на одном из Бастионов, да и вообще на передовой, Его Благородие, нисколько не сомневаясь, причисляет себя к защитникам города, к тем, на ком и держится, собственно, Севастополь. Ибо кто, если не он, в решающий момент…
И хотя решающих моментов, да и моментов попроще, в его жизни случалось немало, но всё это были недостаточно решающие моменты, или не на виду у высокого начальства! А без того, чтобы не на виду… увольте! Подвиги надо совершать так, чтоб потом грудь в крестах – раз, и на всю жизнь!
– И Ванька, сукин сын, – переключился он на слугу, – Оставить своего господина без…
Поручик задумался ненадолго, а без чего, собственно, оставил его нерадивый раб? Но думалось ему тяжко, можно даже сказать, вообще не думалось, и, тряхнув головой, он решил, что безо всего!
– Сукин сын, – ещё раз повторил он, – Байстрюк! Да! Бляжий сын! А значит…
– Хм… – мысли его приняли игривое направление, – Раб, да! И мать его… и вообще, разве не хозяин он рабу своему?!
– Пороть, – решил он, – а потом – по греческому обыкновению! А то ишь…
* * *Остановившись возле Ваньки, лейтенант дёрнул щекой и встал, неприязненно разглядывая его. Один из моряков, сопровождавших Шумова, кашлянув в кулак, хотел было, очевидно, сказать что-то, но Алексей Степанович быстро и колюче глянул на него, и слова застряли в горле.









