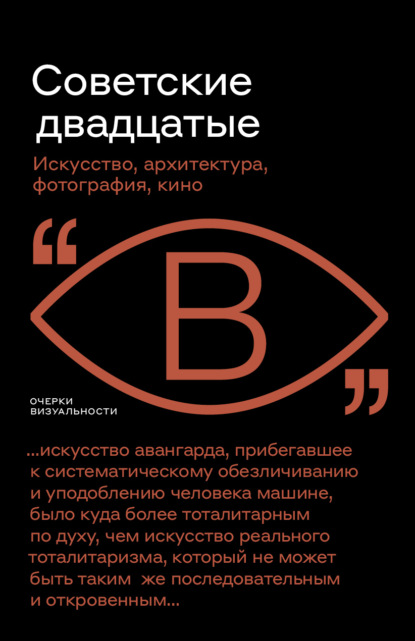Полная версия
Психомоторная эстетика. Движение и чувство в литературе и кино начала ХX века
Пятая глава рассматривает психофизиологические подходы к изучению кинозрителя на примере американских и советских попыток зафиксировать эмоции публики с помощью фотографирования их лиц, записи их рефлексов и регистрирования изменений их кровяного давления и дыхания. Такие исследования проводились в СССР с целью увеличить эффективность кинопропаганды среди пролетарской, сельской и юношеской аудитории, а в США – для того, чтобы выработать формулы популярного кино для усредненного массового зрителя. В главе сравниваются исследования зрителей, проводившиеся Уильямом Моултоном Марстоном – создателем полиграфического детектора лжи – для голливудской студии Universal, с аналогичными инициативами разных организаций под юрисдикцией Наркомпроса (советского министерства просвещения и пропаганды), таких как Исследовательская театральная мастерская и Институт методов внешкольной работы. Здесь реконструируются институциональные и культурно-политические условия, в которых проводились исследования зрителей в обеих странах. Далее я прослеживаю корни этих эмпирических подходов в методах физиологической психологии конца XIX века, когда хронофотография и кимограф служили для того, чтобы получать непосредственные, «индексные», записи телесных процессов, которые, как предполагалось, отражали работу психики. Критическое осмысление этого наследия показывает, как методы и выводы этих ученых часто повторяли универсалистские заблуждения биологически ориентированной психологии, и более того, утверждали предвзятое отношение к испытуемым: женщинам, детям и безграмотным сельским жителям.
Необходимо отметить, что научные концепции, рассмотренные в этой книге, – не фрейдистские. Мой отход от истории психоанализа не означает, что я отвергаю или недооцениваю огромное влияние, которое он оказал на модернистскую культуру, или игнорирую совпадения между фрейдистским подходом к телодвижению и некоторыми экспериментальным практикам, описанным в «Психомоторной эстетике». Отвлекаясь от психоанализа в данной книге, я ставлю себе целью обратить внимание читателей на менее известные дискурсы, существовавшие одновременно с фрейдизмом и зачастую (хотя и не всегда) полемизирующие с ним.
Без сомнения, психоанализ пользовался популярностью в России, учитывая, что первые отечественные труды последователей Зигмунда Фрейда и Адольфа Адлера появились в уже в начале 1910‑х годов50. Увлечение психоанализом достигло пика примерно в 1922–1923 годах и пошло на спад лишь в 1930‑е, когда сталинское понимание психологии свело эту науку к павловским догмам51. Такие авангардисты, как Крученых и Эйзенштейн, вдохновлялись трудами Фрейда о детстве, сексуальности и творческом самовыражении, в то время как профессиональные психологи, консультировавшие Эйзенштейна по различным аспектам кинотеории и его личной жизни – Александр Лурия, Арон Залкинд, Юрий Каннабих и другие, – были одними из первых популяризаторов Фрейда в России. Эти интеллектуальные связи прекрасно задокументированы52. Чтобы не повторять то, что уже достаточно хорошо изучено, данная книга освещает другие психофизиологические концепции, существовавшие до Фрейда и одновременно с ним, – те, которые придавали гораздо большее значение расшифровке микродвижений тела, по сравнению с венским психиатром. Важно понимать, что в основе психоанализа как метода диагностики и терапии лежит несогласие Фрейда с позитивистским уравниванием психических заболеваний и расстройств собственно нервной системы53. В монументальном труде «Открытие бессознательного» историк Генри Элленбергер отмечает, что лишь малая доля фрейдовской теории связана с нейрофизиологическими методами исследования54. Несмотря на преданность Фрейда идеям Шарко, под влиянием которого он начал исследовать соматические признаки истерического невроза, его собственная практика вышла за рамки чисто неврологических подходов к психическим синдромам, выделив психосоциальные и сексуальные причины психических расстройств55. Методика Фрейда опиралась на интроспективные повествовательные свидетельства пациентов, работу с символами и речевыми ассоциациями, моделирование ситуаций и другие техники, упор в которых делался в большей степени на психологические факторы, чем на нейрофизиологические. В ранних текстах Фрейд часто использует термины, почерпнутые им в психофизиологии XIX века, однако он всегда связывает неврологические феномены с психологическими драмами, мучающими пациента. Например, в своих статьях об истерии Фрейд использует термин «иннервация», означающий активацию мышц импульсами, распространяющимися по нервным волокнам. Однако, как психиатр, Фрейд применяет этот термин для описания важного в его теории понятия «конверсии» – процесса, благодаря которому вытесненная идея проявляется в форме мучительных конвульсий, истерического паралича и других соматических форм подавленной травмы56. Искусно комбинируя разные методы и концепции, Фрейд объединил элементы позитивистской нейрофизиологии и философские теории мышления, включая концепцию «психической энергии» Ф. Брентано (энергии, поток которой направлен на удовлетворение инстинктов), принципы повторения и удовольствия-неудовольствия по Г. Фехнеру, сексуальный мистицизм А. Шопенгауэра, а также романтическую школу психиатрии, видевшую источники психоза в чувстве вины, сексуальной неудовлетворенности и непреодолимой травме57. Влиятельная теория Гербарта, описывавшая сложный процесс перехода идей из сферы бессознательного в сознание, снабдила Фрейда образом вытеснения и сублимации подавляемых импульсов58. Его истолкования психиатрических случаев зачастую принимали форму детективных разоблачений, раскрывающих самому человеку темные, подсознательные причины его поведения59. Для модернистов, разделявших идеи Фрейда, психоаналитический подход рифмовался с Ницше, с витализмом Бергсона и с немецкой «философией жизни» (Lebensphilosophie), описывавшими разум и сознание как надзирающие силы, подавляющие иррациональное, чувственное бессознательное. Художественные эксперименты, развивавшиеся в диалоге с фрейдизмом, стремились к тому, чтобы пролить свет на это царство табуированных фантазий и фобий, культивируя болезненную зачарованность иррациональной стороной психики.
Культурные проекты, описанные в этой книге, хотя и в не в меньшей степени направлены на поиск пределов рационального сознания, были лишены социального пессимизма, характерного для фрейдизма. Возможно, это объясняется мятежным духом разных группировок русского авангарда, от футуристов, отринувших декадентскую культуру fin-de-siècle, до советских кинематографистов, считавших себя создателями революционной культуры. Российские интеллектуалы имели доступ не только к трудам Фрейда, но и к другим традициям в психологии, предлагающим альтернативный взгляд на психику и не романтизирующим бессознательное как некий мистический, темный источник интуиции, творчества и гения. В то время как клиническая практика Фрейда подчеркивала патологические телесные автоматизмы, в более прагматических, прикладных исследованиях внимания, моторной координации и формирования привычек, рефлексы рассматривались как обычное, необходимое проявление работы нервной системы. В этих исследованиях сознательное и бессознательное были представлены не столько в оппозиции, сколько в терминах кооперации.
Такой взгляд на психику уже был свойственен «Рефлексам головного мозга» Сеченова и выкристаллизовался в аксиому в позитивистской психологии Бехтерева. По словам Бехтерева,
для объективной психологии, которую можно было бы назвать психорефлексологией мозговых полушарий, термины произвольный и непроизвольный, сознательный и бессознательный утрачивают всякое значение60.
Хотя Бехтерев признавал ценность фрейдовского метода «очищения исповедью», а Павлов задействовал клинический случай Анны О. в разработке собственной концепции невроза, между российскими рефлексологическими школами и психоанализом был существенный разрыв61. Советская историография впоследствии вообще не будет признавать какого-либо диалога между этими двумя течениями. Хотя некий диалог имел место, действительно, трудно отрицать, что российский подход, сосредоточенный на нейрофизиологии, а не на символических представлениях, был более созвучен механистическому взгляду на психику. В этом качестве рефлексология в итоге и была включена в утопические программы нового социалистического государства. К слову, тоталитарная версия «фрейдистского марксизма» также чуть не стала теоретической платформой для создания Нового человека в России 1920‑х годов. Троцкий пропагандировал фрейдомарксизм, призывая к полному изгнанию всего хаотического и спонтанного из человеческой психики – своеобразный экзорцизм бессознательного62. Рефлексология с тем же усердием утверждалась большевистской идеологией как способ завоевать и оптимизировать человеческие рефлексы. Дисциплинирующий пафос явно не был главной идеей научных публикаций Павлова и Бехтерева, хотя их советские последователи во многих прикладных областях, таких как криминология или детское воспитание, действительно занимались практиками, достойными пера Энтони Бёрджесса в «Заводном апельсине»63.
Вообще, отношения научных учреждений с властью – это весьма сложный вопрос, и даже в контексте сверхполитизированной атмосферы раннего советского государства было бы ошибкой считать работу всех психофизиологических лабораторий подчиненной зарождающемуся авторитаризму. Взять хотя бы Центральный институт труда, подробно обсуждаемый в третьей главе: это одновременно место, где разворачивалась высокоидеологическая, вертикально выстроенная программа Алексея Гастева по улучшению моторных навыков рабочих с помощью повторяющихся тренировок, и колыбель перспективных исследований Николая Бернштейна по биомеханике, выявивших способность человеческой двигательной системы человека к самокоординации и заложивших основу современным теориям воплощенного познания64.
Чтобы ярче проиллюстрировать то, каким образом нефрейдистский, позитивистский подход к функционированию разума и тела мог вдохновить одновременно утилитарные социальные практики – с их призывом к максимальной эксплуатации и дисциплине – и нонконформистские, стремящиеся к свободе эксперимента в искусстве, стоит обратиться к наследию Хуго Мюнстерберга. Этот германо-американский ученый прежде всего известен как основоположник психотехники, применивший знания психофизиологии для таких утилитарных задач, как проверка профпригодности, дизайн коммерческой рекламы, криминалистика и т. д. С другой стороны, его исследования, научно-популярные публикации и преподавательская деятельность привлекли внимание широкого круга американцев к таким феноменам, как кинестетическая эмпатия и сенсомоторные аспекты восприятия. Его идеи проникли в модернистские эстетические теории, питая зарождающийся в то время современный танец и абстрактное искусство в США65.
Мюнстерберг-психолог был гораздо ближе к Бехтереву и Павлову, чем Фрейд. Он полагал, что залог успешного излечения психиатрических пациентов кроется в перенаправлении «психомоторных процессов» в их мозге66. Он считал, что избавить пациентов от зацикливания на патологических мыслях и действиях можно не только путем гипноза, но и в обычном состоянии бодрствования, и поэтому пытался помочь им «усилить мысли, противоположные тем, что порождают проблемы»67. Известен афоризм Мюнстерберга из книги «Психотерапия» (1909), где он отвергает идею ид, провозглашая: «Вся эта история про подсознательный ум сводится к трем словам: нет такого ума»68. Вместо изучения бессознательного как такового он ставил вопрос о том, что вообще считается сознанием, указывая, насколько узка и изменчива сфера нашего внимания, способного воспринять лишь малую долю внешних сигналов и внутренних процессов69.
Мюнстерберг подхватывает метафору Уильяма Джеймса о сознании как потоке и утверждает, что оно лишено целостности, так как «факты мышления», формирующие содержание сознания в каждый отдельный момент, самоорганизуются автономно70. Следовательно, сознание нельзя приравнивать к чувству самости: его нужно воспринимать не как основу идентичности, но как координированное функционирование внимания, перцепции, памяти и моторных установок, которые поддерживаются неврологическими процессами в мозге71. Различные устройства в лаборатории Мюнстерберга расшифровывали отдельные психологические процессы, таким образом подводя технологический фундамент под его идею сознания как набора функций72. Ярким примером модернистского автора, вдохновившегося этим нефрейдистским подходом к психике, может послужить Гертруда Стайн, одно время учившаяся у Джеймса и Мюнстерберга в Гарвардской психологической лаборатории. Две ее научные работы 1890‑х годов были посвящены автоматизации действий и описывали результаты экспериментов, в которых подопытные читали, писали и чертили ритмические фигуры в условиях постоянного отвлечения внимания73. Это исследование дало Стайн представление об автопилоте – модусе, в котором мы, оказывается, совершаем большинство обыденных действий. По словам филолога Барбары Уилл, американская писательница ценила это состояние «внимательного невнимания» и «безразличной бдительности», освобожденное от субъективных предубеждений, которые обычно появляются под контролем сознания74. Стайн применила этот принцип в своих ранних произведениях, дающих голос безличной «машине под поверхностью сознательной мысли»75. То, как она работает с автоматизмами, глубоко отличается от практик автоматического письма французских сюрреалистов, в большей степени вдохновлявшихся фрейдизмом. Как отмечает Уилл, для нее автоматичность являлась не «механизмом откровения», но способом запечатлеть «гул из эпицентра психической жизни, гуд человеческого мотора»76. Если сюрреалисты практиковали автоматическое письмо как способ взаимодействия с бессознательным «я» во всей его невыносимой аутентичности, то эксперименты Стайн были направлены на то, чтобы отстраненно посмотреть на процессы, совершающиеся в нашем сознании, и задокументировать его повторяющиеся, разрозненные операции.
Пример Стайн прекрасно служит для того, чтобы познакомить читателя с некоторыми ключевыми аспектами культурных экспериментов, которые данная книга выводит на передний план в российском контексте: тенденция к обезличиванию, изучение телесных механизмов без демонизации бессознательного, а также желание запечатлеть следы внутренних процессов в художественной форме – подобно тому, как их записывали и расшифровывали в психофизиологических лабораториях. Стремление американских модернистов выйти за пределы личного и перейти на уровень сознания, на котором сигналы индивидуального «я» – его страхи, желания, расчеты и суждения – станут далекими и неважными, свидетельствует об их интересе к структурным механизмам мышления (вместо того чтобы, как сюрреалисты, разбираться с монстрами, которых порождает сон разума). Выражаясь иносказательно, гул психологических инструментов, регистрирующих процессы внимания и восприятия в психологической лаборатории Мюнстерберга, совпадает с операционным шумом, который Стайн обнаруживает в сознании своих персонажей. Хотя оригинальная эстетика Стайн глубоко отлична от стилей авторов, исследуемых в этой книге, интересно отметить, что в своих теориях футуристического стиха Крученых и Шкловский также делали упор не на индивидуальность лирического образа автора, но на абстрактные, безличные аспекты звучащей речи, такие как моторная динамика вербализации и семантические эффекты, вызываемые конкретными кинестетическими ощущениями.
Русские формалисты изучали телесные нюансы артикуляции для классификации исполнительских стилей поэтов. Режиссеры Лев Кулешов и Сергей Эйзенштейн экспериментировали с векторами движения актеров, располагая их с помощью монтажа в эффектных последовательностях, чтобы произвести определенное, просчитанное воздействие на восприятие аудитории. Эйзенштейн подчеркивал разницу между собственным подходом к бессознательному и подходом сюрреалистов. Он вменял французским коллегам в вину то, что они были зациклены на «содержании бессознательного» вместо того, чтобы пытаться понять законы его «движения», как это делали Джеймс Джойс в «Улиссе» или он сам в своих фильмах77. Если сюрреалисты использовали «подсознательные и автоматические моменты» для самовыражения, то, по утверждению Эйзенштейна, революционные советские режиссеры использовали эти же элементы для того, чтобы «добиться эмоционального, интеллектуального или идеологического воздействия на зрителя»78.
Три последние главы книги посвящены кинематографу как массовому искусству; в них я остановлюсь на проблеме использования художественных произведений в целях организации «коллективной чувственности», как точно определил это явление Игорь Чубаров в своем исследовании советского утопического искусства 1920‑х годов79. Взгляд на кино как на машину, доставляющую импульсы подключенной к ней аудитории, представленный в пятой главе, дает историческую иллюстрацию к замечанию Валерия Подороги о том, что
Одно из важных достижений авангарда – это деантропологизация мира. Речь идет о механизации чувственности и всех возможностей восприятия80.
Последняя глава книги ближе всего подходит к описанию постчеловеческого мира, в котором механизмы коммуницируют с механизмами: машины для записи соматических данных зрителей работают синхронно с машинами, создающими образы. Картина этого мира действительно напоминает прогнозы Фридриха Киттлера, однако в своем анализе я также указываю на сбои в согласованном ходе шестеренок – щели, сквозь которые вновь возвращаются в игру забытые душа и индивидуальное тело. Важный вклад Киттлера в теорию медиа состоит в предостережении о превратностях постчеловеческого мира, провозглашенного технократического современностью. Немецкий теоретик указал на определяющую роль технологий, использовавшихся в психофизиологических лабораториях, в постижении механизмов человеческого восприятия и далее в создании эстетических объектов, способных задействовать чувства и эмоции среднестатистического человека с максимальной силой. Теоретическое наследие Мюнстерберга стало прекрасным материалом для Киттлера. В комментариях к тексту Мюнстерберга «Кинофильм: психологическое исследование» (1916) Киттлер резюмирует, что кино – это «медиум, который моделирует неврологических поток данных»81. А по словам Джулианы Бруно, Мюнстерберг представлял себе внутренний мир человека «как механизм, который подлежит разбору – своего рода технологию», и этот подход привел его к пониманию кино «как психического инструмента», который определенными способами завладевает нашим вниманием и эмоциями82. Психофизиологические исследования зрителя, анализируемые в пятой главе, доводят идею Мюнстерберга до логического конца. Однако при более внимательном рассмотрении на передний план выходят предвзятые исследовательские установки экспериментаторов, методологические проблемы в их опытах и отсутствие практических результатов для киноиндустрии. Непрозрачность, амбивалентность соматических данных стала преградой для амбиций усовершенствовать кинопроизводство на основе психофизиологии.
В целом различные эстетические подходы к телесности, осмысляемые в этой книге, не сводятся к общему знаменателю. В то время как кинопродюсеры и идеологи спонсировали психофизиологическое тестирование зрителей с целью вывести формулы захватывающих фильмов, русские футуристы-бунтари приспосабливали и переиначивали научные методы для художественной игры с двигательной, артикуляционной фактурой словесного выражения. Подходы к изучению телесности, берущие начало в психофизиологических лабораториях, подали русским формалистам-стиховедам идею точного анализа голосов поэтов, позволили актерам в фильмах Кулешова расширить экспрессивный репертуар и натолкнули Эйзенштейна на мысль об эмпатическом со-движении публики с экраном. Столь широкий спектр применения научных идей поддерживает полемику Брэйна против теории Киттлера. Брэйн поставил под сомнение киттлерианский тезис о том, что технологии, появившиеся в психофизиологических лабораториях рубежа веков, навязали абстрактные рамки нашему чувственному восприятию, сведя полноту человеческого опыта к количественным, бестелесным, математическим данным, таким образом подготавливая почву для нового века кибернетики83. Хотя в пессимистическом прогнозе Киттлера есть много правды, его телеологический взгляд игнорирует причудливые зигзаги и неоднозначные ответвления в истории психофизиологических технологий, многие из которых способствовали художественному осмыслению телесности и воплощенного сознания, а не утилитарному сбору абстрактных данных.
Данная книга представляет различные культурные эксперименты: от тех, что проводились под флагом рациональной организации, до тех, что углублялись в иррациональные импульсы; от тех, что руководствовались идей тотального контроля над моторными функциями, до таких, которые выявляли художественную ценность сбоев, подергиваний, приступов и неуклюжих телодвижений. Последствия этих проектов также разнятся – от глубоко гуманистических до пугающе постчеловеческих – и мне было важно разделить эти тенденции.
Переплетение дискурсов: на подступах к психологии искусства
Данное исследование впервые сводит вместе различные концепции телесности, подчеркивающие роль кинестетических ощущений в создании и в восприятии искусства, которые имели хождение в научных и артистических кругах в первой четверти XX века. Широкие хронологические рамки, охватывающие дореволюционный период и первое десятилетие коммунистического строя, позволяют сопоставить культурные практики, входившие в советский идеологический проект, и те, что не имели к нему никакого отношения. Прослеживая международные и интердисциплинарные связи в этот период, книга указывает на общие корни российских, европейских и американских концепций экспрессивного движения, а также на самые разные применения этих идей в разных контекстах.
Такая широкая перспектива открывает новые горизонты для изучения пересечения разных видов искусства и психофизиологии в России и дополняет имеющиеся исследования, которые до сих пор были сосредоточены в первую очередь на политических императивах послереволюционной культуры. История психологии присутствует в работах, подчеркивающих политические аспекты модерных видов телесной культуры, сформированной Пролеткультом, ЛЕФом и затем сталинистским идеологическим аппаратом. Первопроходческие исследования Михаила Ямпольского, Валерия Подороги, Игоря Чубарова, Шарлотты Дуглас, Лилии Кагановски, Юлии Вайнгурт и других исследователей проливают свет на контуры советских идеологических программ, направленных на увеличение телесного самоконтроля, дисциплины и сноровки в работе с технологиями84. Другая волна исследований осмысляет феноменологический опыт советского человека сквозь призму интеллектуальной истории чувств, эмоций и быта85. Среди работ этого направления выделяется книга Эммы Уиддис «Социалистические чувства: Кино и создание советской субъективности, 1917–1940» – свежий и провоцирующий на размышления текст, исследующий разные подходы к тактильным ощущениям в биомедицинском, философском и идеологическом дискурсах. Цель Уиддис – показать методы, при помощи которых осязание включалось в программу создания нового, именно советского взгляда на человеческое тело и его взаимодействие с предметным миром86. Уиддис обращается к фильмам и теории кино разных эпох советской истории – от зарождения авангарда и утопизма начала 1920‑х годов к плану первой пятилетки и вплоть до «развитого сталинизма». Она разграничивает раннее советское кино, погружающее зрителя в необычно поданный, поразительный мир чувственного восприятия физического труда и ремесел, таких как вязание кружев, и социалистический реализм, который предлагает зрителю сфокусироваться на личности главного героя и его идеологической биографии, а не на необыкновенных ощущениях нового мира. Уиддис проницательно сопоставляет эти сдвиги в советской истории чувств с происходящей в то же время борьбой между различными школами психологии и изменениями политического климата страны. Ранние 1920‑е годы знаменуются психофизиологическим позитивизмом, который предлагал взгляд на человечество как на биосоциальный организм и коллективную силу, трансформирующую окружающий мир. К концу десятилетия этот материалистический подход сменяется более психологически ориентированным взглядом, выдвигающим на первый план личность отдельного человека и условия ее формирования. Хотя изначально такое развитие психологии как науки было вполне здоровым, довольно быстро личностный подход стал ригидным и догматичным, а психология личности стала оцениваться по строгим нормам сталинистского морального кодекса. Особую ценность работе Уиддис придает тщательный анализ кинотехник, вызывающих определенные тактильные ощущения – исследовательский интерес, спровоцированный поворотом в сторону тактильности в медиаисследованиях, который произвели влиятельные труды Джулианы Бруно, Лоры Маркс, Вивиан Собчак и Дженнифер Баркер. Уиддис указывает на то, что исследования телесного опыта зрителей в 1920‑х годах, описанные теоретиками советского авангарда, предвосхитили многие современные концепции87.