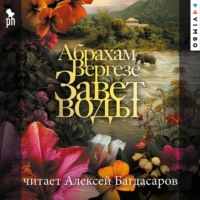Полная версия
Завет воды
Закончив обычные вечерние молитвы, она беседует с Господом. “Я так рада, что есть газета. Муж заботится о моих потребностях, это видно. Может, мне следует упомянуть и о других нуждах? Нет, я не жалуюсь, но если это христианский дом, почему мы не ходим в церковь? Я знаю, Ты это уже слышал раньше. Если бы мама могла приехать, я бы Тебя не беспокоила. Такие вещи я могла бы обсудить с ней”.
Возможно, в ответ на ее неустанные молитвы, после долгих месяцев молчания наконец приходит письмо от матери. Самуэль по пути на мельницу заходит в церковь и на этот раз возвращается, взволнованно держа письмо обеими руками, потому что знает, какая это ценность; его восторг почти сравним с ее радостью.
Моя дорогая доченька, сокровище мое, как же мне согревают сердце твои письма. Ты не представляешь, сколько раз я целую их. Твоя сестра Биджи выходит замуж. Я каждый день хожу в церковь. Навещаю могилу твоего отца и молюсь о тебе. Лучшие воспоминания моей жизни связаны с ним и с тобой. Я хочу сказать, пожалуйста, дорожи каждым днем, проведенным в браке. Быть женой, заботиться о муже, растить детей – что может быть ценнее этого? Вспоминай меня в своих молитвах.
В последующие дни она то и дело достает мамино письмо, всякий раз целуя его, как святыню. И сколько бы раз она его ни перечитывала, тревога не становится меньше. Она не желает смиряться с правилами этой жизни: выходя замуж, женщина навеки оставляет дом своего детства, а судьба вдовы – навеки оставаться в доме, куда она вышла замуж.
Календарь на стене – вкладыш из газеты – похож на математическую таблицу и астрономическую карту. Каждый день он показывает фазы луны, время, неблагоприятное для начала путешествия. А сейчас календарь сообщает, что начинается пост, пятидесятидневный период воздержания, ведущий к Страстной пятнице. Она откажется от мяса, рыбы, молока, а в первый день вообще не съест ни крошки пищи.
Когда вечером муж садится ужинать, она кладет на стол свежий банановый лист и ставит воду с кумином – джира. Он разглаживает лист. Она готовится произнести слова, которые репетировала. Но едва открывает рот, чтобы заговорить, муж ударом кулака раздавливает стебель листа, расправляя – Трах! Трах! – и пугая ее. Он выплескивает чай-джира на зеленую сверкающую поверхность, смахивает остатки в сторону муттама. Момент упущен. Она тихо подает рис, чатни, йогурт… потом подходит с мясом – проверить, откажется ли он в первый день поста. Но нет, он жадно ест. С чего она решила, что в этом году будет иначе, чем все предыдущие годы?
В дни, которые следуют за первым, ни мясо, ни рыба не касаются ее уст; она тоскует по обществу домочадцев, которые постятся вместе, но одиночество только укрепляет ее решимость.
– Тебе нужно больше есть, – говорит Самуэль примерно в середине поста. – Ты слишком исхудала. – Самуэлю не пристало так говорить, это дерзость с его стороны. – Это тамб’ран говорит. Он беспокоится.
Молодая жена чувствует себя, как люди, объявившие голодовку, про которых написано в газете, как они устроились лагерем около здания Правительства – умалиться, дабы стать заметными.
– Если тамб’ран так думает, он мог и сам мне сказать.
Тем вечером она откладывает молитвы и возится с разными другими делами. В конце концов, уже готовясь засыпать, она покрывает голову и становится лицом к распятию на восточной стене спальни, поскольку, согласно традиции, Мессия придет в Иерусалим с востока. Ни молитвы, ни слова благодарности не рождаются в сердце. Неужели Господь не чувствует ее разочарования? Наконец она произносит: “Господи, я не буду больше просить. Ты видишь препятствия на моем пути. Если Ты хочешь, чтобы я осталась в церкви, Ты должен помочь. Вот все, что я могу сказать. Аминь”.
Танкамма говорила, что если хочешь получить что-то от мужа, секрет прост – надо загадать желание, пока готовишь халву. Но путь открывает не халва, а ее эре́ки олартхия́рту[39]. Она начинает готовить блюдо утром: обжаривает и потом растирает в ступке кориандр, семена фенхеля, перец, гвоздику, кардамон, корицу и звездочки аниса и втирает эту сухую смесь в кусочки баранины, чтобы замариновать. Днем она обжаривает лук со свежим натертым кокосом, зернами горчицы, имбирем, чесноком, зеленым чили, куркумой и листьями карри, добавляет еще немножко сухих специй, а потом мясо. Она гасит огонь, чтобы только угли тлели, не закрывает горшок, чтобы соус загустел и каждый кусочек мяса обволокло плотной темной подливкой. Вечером, отправив ДжоДжо сказать отцу, что “чо́ру вила́мби” – рис готов, она завершает приготовление блюда, еще раз обжарив мясо в кокосовом масле со свежими листьями карри и кубиками кокосовой мякоти. Она подает его обжигающе горячим, шипящим, масло еще брызжет с зарумяненной мясной корочки. Она еще выкладывает еду на банановый лист, а муж уже сует кусок в рот. Не может удержаться.
Она тихо стоит в сторонке, пока он ест, но ближе, чем обычно. За последние несколько вечеров она уже прочла ему всю газету, и теперь нужно дождаться нового номера. Господь внезапно дарует ей силы заговорить.
– Мясо вкусное? – спрашивает она. И сама знает, что блюдо получилось как никогда.
Слова льются изо рта, как вода из длинного носика ки́нди[40], и она видит, как они наполняют чаши его ушей. Как будто смотрит со стороны, как будто кто-то другой говорит, а не она.
И когда она уже решила, что муж раздражен ее дерзостью, большая голова вдруг качнулась из стороны в сторону в знак одобрения. От радости, волной поднявшейся внутри, хочется хлопать в ладоши и танцевать. В кои-то веки он остается сидеть, закончив трапезу, не вскакивает мыть руки под струей из кинди.
Интересно, он слышит, как колотится ее сердце?
ДжоДжо, подглядывающий за ними из-за столба, потрясен тем, что она разговаривает с его отцом.
– Аммачи, – громко шепчет он. – Не рассказывай ему! Обещаю, я завтра помоюсь.
Она быстро прижимает ладонь ко рту, но не успевает сдержать смешок.
Следует жуткая пауза, а потом как будто раздается непонятный взрыв – муж хохочет, оглушительно громко и весело. ДжоДжо озадаченно выбирается из укрытия. Когда малыш понимает, что смеются над ним, он подбегает, шлепает ее по бедру, сердито плачет и убегает, прежде чем она успевает его схватить. Это лишь еще больше веселит мужа, и он, гогоча, откидывается на спинку кресла. Смех преображает его, открывая прежде невидимые ей стороны.
Он вытирает ладонью глаза, все еще улыбаясь.
Слова потоком льются из нее. Она рассказывает, что когда сегодня ДжоДжо пришло время мыться, она обыскалась его везде и нашла в итоге на хлебном дереве, малыш застрял там, на этой плаву. Муж все еще сияет улыбкой. Она продолжает: ДжоДжо учит буквы и цифры, но только если подкупить его лакомством – манго с порошком чили. А сама она предпочитает бананы того сорта, который сегодня принес Самуэль… Она слышит свой щебет со стороны и умолкает. Тишину заполняет стрекот сверчков, а потом к хору присоединяется и лягушка-бык.
А потом муж задает вопрос, который должен был прозвучать давным-давно: Су́гхама́но? Тебе здесь хорошо? И смотрит на нее в упор. Впервые с тех пор, как стоял перед ней в церкви почти три года назад, он рассматривает ее так пристально.
Она старается выдержать взгляд, в его глазах все та же могучая сила, что и тогда у церковного алтаря. Она припоминает строку из свадебной службы: Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви[41].
И вдруг понимает, почему со дня их свадьбы он держался на расстоянии, мало говорил, но издалека заботился о ней, о том, чтобы она получала все, что захочет, чтобы ей было удобно и спокойно; это вовсе не равнодушие, а ровно наоборот. Он понимает, что она может бояться его.
Она опускает взгляд. Способность говорить улетучивается. Но ей задали вопрос. Он ждет.
Ноги слабеют. Ей отчего-то хочется броситься к нему, погладить пальцами эти узловатые руки. Это жажда любви, близости, человеческого прикосновения. Дома ее постоянно обнимали и целовали, тело матери согревало ее по ночам. Здесь, если бы не ДжоДжо, она бы совсем зачахла.
Она слышит, как скрипнуло кресло, муж отчаялся услышать ответ. И тихо произносит:
– Я скучаю по маме.
Он приподнимает бровь, как будто не уверен, не почудились ли ему эти слова.
– И было бы неплохо ходить в церковь, – неестественно громко добавляет она.
Он, кажется, обдумывает эту мысль. Потом омывает руки из кинди, выходит в муттам и удаляется. Сердце ее сжимается. Какая глупость, глупость просить так много!
Позже вечером, когда ДжоДжо засыпает, она возвращается в кухню прибраться и прикрыть угли кокосовой скорлупой, чтобы до утра они не погасли окончательно. Потом с тяжелым сердцем идет к себе в комнату, где они спят вместе с ДжоДжо.
И, оторопев, видит на полу открытый металлический сундук. Стопка аккуратно сложенной белой одежды, должно быть, принадлежала матери ДжоДжо. С собой в Парамбиль она привезла только свадебные чатта и мунду и еще три комплекта одежды, все ослепительно белые, традиционный наряд христианок Святого Фомы. Цветастые полусари и юбки остались в детстве. Ее старые чатта стали тесны в плечах и слегка подчеркивают набухающую грудь, тогда как бесформенная одежда должна намекать, что там вообще ничего нет. И потому она уже привыкла носить мешковатые и потрепанные чатта и мунду, забытые Танкаммой. Но чатта из сундука, которые, наверное, остались от матери ДжоДжо, сидели идеально. Она разглядывает себя в зеркале. Ее тело меняется, она стала выше ростом и прибавила в весе. Больше года назад у нее начались кровотечения. Она перепугалась, хотя мать и предупреждала, что такое случится. Она заварила себе имбирный чай от спазмов и смастерила специальные менструальные подкладки, припоминая, как видела такие дома, сохнущие на бельевых веревках. Когда она развешивала сушиться свои выстиранные тряпки, то прикрыла их полотенцами и простынями. Четыре дня она чувствовала себя неважно, стала совсем рассеянной, но старалась держать себя в руках. Ей некому было пожаловаться и не с кем отпраздновать, если уж на то пошло. Даже сейчас эти четыре-пять дней остаются большим испытанием.
На самом дне сундука она находит Библию. Все это время у тебя была Библия – и ты мне не говорил? Она слишком взволнована находкой, чтобы долго сердиться, но решает упомянуть о ней в следующий раз, когда соберется в погреб.
Когда наступает воскресенье, она с удивлением обнаруживает мужа в белой джуба и мунду – его свадебном наряде. Она так привыкла видеть его с обнаженной грудью и в подоткнутом мунду, с тхортом, перекинутым через левое плечо, – неотличимым от пулайар, которые на него работают. Среди работников муж выделялся только ростом и статью – верный признак, что он вырос в доме, где еды было в достатке. Он обращается к Самуэлю:
– Попроси Сару побыть с ДжоДжо, пока мы не вернемся из церкви.
Она мчится одеваться:
– Господь, как только окажусь в Твоем доме, поблагодарю Тебя как следует.
Они отправляются в путь по суше, в направлении, противоположном причалу. Вцепившись в Библию, она торопливо семенит за ним, делая два своих шага на каждый его. Она исполнена ликования и почти летит, едва касаясь ногами земли. Вскоре они добираются до ручья, через который переброшено бревно, скользкое от мха.
– Иди вперед, – велит муж, и она стремглав проносится над водой.
Он осторожно перебирается следом, крепко стиснув зубы. На другом берегу он задерживается, кладет ладонь на камень для поклажи, словно собираясь с духом, прежде чем идти дальше. Пешком они добираются до церкви гораздо дольше, чем плыли бы на лодке, в конце пути переходят реку по мосту, достаточно широкому для повозок.
Вид людей, стекающихся к церкви, вызывает восторженный трепет, хотя она никого здесь не знает.
– Я подожду там, – машет он рукой в сторону раскидистого пи́ипал[42], воздушные корни которого гигантскими усами нависают над церковным кладбищем. Сгорая от нетерпения, она спешит в церковь, натянув кавани на голову. Она и забыла, каково это, когда на службе столько народу, когда совсем рядом чувствуешь других людей; каково это – быть частью ткани, а не ниточкой, выдернутой из целого.
Мужчины слева, женщины справа, их разделяет воображаемая линия. Она наслаждается знакомыми фразами евхаристии. Когда аччан воздевает возду́х над Дарами, она ощущает присутствие Господа, чувствует, как Дух Святой нисходит на нее, волна за волной, как приподнимает ее над землей. Слезы радости застилают глаза. “Я здесь, Господи! Я здесь!” – безмолвно кричит она.
По окончании службы выходя из храма, она замечает, как из ворот кладбища появляется муж, очень задумчивый. От пристани и с парома доносятся радостные голоса и смех. Обратно они идут в молчании.
– Пять лет, как она умерла… – вдруг говорит муж, по голосу ясно, как трудно ему сдерживаться.
Мать ДжоДжо. Она испытывает странное чувство, слыша, с какой нежностью он говорит о бывшей жене. Неужели завидует? Или надеется, что когда-нибудь он будет говорить и о ней с такой же страстностью? Она молчит, боясь, что любое сказанное ею слово прервет поток его речи.
– Как простить Бога? – говорит он. – Который отобрал мать у ребенка?
Паузы между фразами кажутся широкими, как река. Они добираются до бревна через ручей, и на этот раз он идет первым. Ждет на другом берегу, разглядывая свою юную супругу в одеждах жены бывшей, словно увидел ее в первый раз.
– Жаль, что она не видит нас, – говорит он, не двигаясь с места. – Я бы хотел, чтобы она знала, как ты заботишься о ДжоДжо. Как сильна его любовь к тебе. Она была бы счастлива. Я хотел бы, чтобы она это увидела.
От похвалы у нее кружится голова, она крепче сжимает в руках Библию, принадлежавшую женщине, к которой он только что взывал. Она подходит вплотную к мужу, запрокидывает голову, чтобы взглянуть ему в лицо, пускай даже рискуя шлепнуться на спину.
– Я знаю, что она видит нас, – с горячей убежденностью заявляет она. Она могла бы доказать, но ему не нужны объяснения, только правда. – Она все время наблюдает за нами. Она удерживает мою руку, когда я хочу добавить еще немного соли. Напоминает мне, когда рис выкипает.
Он удивленно приподнимает бровь, лицо смягчается.
– ДжоДжо совсем не помнит свою маму, – вздыхает он.
– Верно, – соглашается она. – С ее благословения сейчас я его мать. И не надо ему вспоминать и печалиться.
Они стоят неподвижно. Он пристально смотрит на нее сверху вниз. Она не отстраняется. И видит, как что-то поддается в нем, как будто распахнулась дверь в запертую ара, в крепость его тела. Тень улыбки словно отмечает конец долгих мучений. И, продолжая путь, он теперь соразмеряет шаг, муж и жена идут дальше в ногу.
В следующее воскресенье муж предлагает ей в одиночку плыть в церковь на лодке – поскольку он не пойдет на службу, ей нет нужды проделывать такой долгий путь пешком. Он провожает ее до причала, где уже собрались несколько женщин и семейных пар. Лодочник отталкивается шестом от берега, она оглядывается и видит мужа, стоящего в рощице ореховых деревьев, их узкие светлые стволы составляют контраст с его широким темным телом. Он врос в землю прочнее дерева. Даже Дамодаран не сможет выдернуть его.
Глаза их встречаются. И, пока лодка отплывает, она успевает понять его чувства – печаль и зависть. Ей больно за него, человека, который не путешествует по воде, который, возможно, никогда не видел, как гладкая поверхность расступается перед носом судна, никогда не ощущал восторга от того, что тебя несет течением, или от брызг шеста лодочника, расчищающего воду. Он никогда не узнает, как плотно обнимает вода, когда ныряешь в реку вниз головой, и как бурлящий шум сменяется окутывающей все тишиной. Все воды связаны между собой, и потому ее мир безграничен. А он стоит на границе своего мира.
В ее шестнадцатый день рождения поутру возле кухни возникает какая-то суматоха, она слышит взволнованные детские голоса. Утки, сгрудившиеся у задней лестницы, крякают и хлопают крыльями, норовя взлететь все разом. Она догадывается, кто это, даже прежде, чем слышит звяканье тяжелой цепи, и прежде, чем оборачивается и видит древнее око, заглядывающее в кухонное окошко. Она хохочет.
– Дамо! Откуда ты узнал?
Совсем новое ощущение – смотреть в этот глаз, не отвлекаясь на огромное тело. Какие восхитительные спутанные ресницы, изящная, тончайшая радужная оболочка цвета корицы. Она вдруг заглядывает в самую душу Дамо… а он в ее. Она чувствует его любовь, его участие – то же, когда он приветствовал ее в самую первую ночь в роли юной жены.
– Погоди минутку. У меня есть для тебя угощение.
Слон застал ее в тонкий момент приготовления меен вевичатху. Она опускает филе макрели в жгучий красный соус, тихо бурлящий в глиняном горшке. Огненно-красный цвет соуса – от молотого чили, а вязкая консистенция – от томленого шалота, имбиря и специй. Но ключ к уникальному вкусу – это ко́кум, малабарский тамаринд. Соус нужно все время пробовать, выправляя остроту солью, добавляя настой кокума, если карри недостаточно кислое, и вынимая кусочки кокума, если кислит чересчур.
Нетерпеливый гигант топает огромными ногами, стряхивая пыль со стропил.
– Прекрати! Если карри не удастся, я расскажу тамб’рану, кто виноват.
Она выходит из кухни с ведерком вареного риса, наскоро смешанного с гхи. Ухмылка Дамо напоминает ей ДжоДжо, когда тот нашкодит. Цезарь, бродячий пес, игриво приплясывает рядом, но благоразумно держится подальше от ножищ гиганта. Дамодаран подцепляет ведро за дужку, вынимает из ее рук и опрокидывает содержимое себе в пасть, словно это наперсток. Облизывает языком края, ставит на землю и проверяет хоботом, не осталось ли чего на дне.
Унни, восседающий на шее Дамо, сцепив босые ноги за громадными ушами, похож на кошку, взобравшуюся на дерево. Издалека не различить хмурое выражение на смуглом рябом лице погонщика, но густые брови сведены к середине.
– Погляди-ка! – Унни показывает на мусор в муттаме. – Я пытался загнать его на место, около дерева, но нет, ему сначала надо было заглянуть в кухню.
Она кладет ладонь на хобот Дамо.
– Он пришел ко мне на день рождения. Никто здесь не знает, а он откуда-то прознал. Благослови тебя за это Господь, мой Дамо. – И внезапно ей становится стыдно – со своим мужем она никогда не разговаривала с такой любовью.
Дамо торжествующе сворачивает хобот кольцом.
Закончив с делами в кухне, она идет к Дамо на его место около старой пальмы. Унни привязал заднюю ногу слона цепью к пню, но это скорее напоминание, чем ограничение. Дамо может оторвать цепь с такой же легкостью, как ребенок ломает прутик, и частенько так и делает. И, как обычно, вся детвора Парамбиля слетелась сюда, как только прошел слух, что Дамо дома. На малышах только блестящие аранджа́нам[43] на талии, они ничуть не стесняются своей наготы, хотя опасаются Дамо, прячась за спинами ребятишек постарше. ДжоДжо стоит, обняв за плечи сына кузнеца, которому тоже шесть лет, но ДжоДжо на голову выше. Она держится поодаль, наблюдая с равным интересом и за детьми, и за слоном.
Дамо окунает хобот в ведро с водой и обрызгивает зрителей. Малышня разбегается, радостно визжа. Потом они вновь собираются поближе, и слон повторяет игру.
Дамо очень привередливый. В отличие от коровы или козы, он не станет есть, если вокруг разбросаны его какашки. Если Унни желает, чтобы слон оставался на одном месте, он должен вооружиться лопатой и сразу отбрасывать подальше все, что вываливается из задницы Дамодарана. Это бесконечная работа для Унни и бесконечное развлечение для юных зрителей.
– А это что? – спрашивает дочка кузнеца, показывая на толстый изогнутый шланг, свисающий из живота Дамо, закругленный конец его мшисто-зеленого цвета. Девочке семь лет от роду. – Это его второй хобот?
– Нет, дурочка, – усмехается ее брат важно и многозначительно, хотя и младше на целый год. – Это его Маленький Дружок.
Мальчишки смеются. Карапузы, ничего не понимающие, хохочут громче всех.
– Ха! – заносчиво бросает дочка кузнеца. – Не такой уж он и маленький, между прочим. По мне, так его хобот гораздо больше похож на Маленького Дружка, чем эта смешная штука.
Возникает пауза, пока ребятня обдумывает сложный вопрос. Братец поворачивается рассмотреть двухлетнего внука ювелира, смущенного кривоногого пузатого карапуза, не вынимающего пальца из носа, теперь все дружно изучают необрезанный пухлый пенис мальчонки, заканчивающийся сморщенными складками кожи, потом сравнивают с хоботом Дамодарана.
– Похоже на то, – изрекает сынишка кузнеца.
Покачивающийся хобот Дамо живет, кажется, сам по себе, независимо от своего хозяина, движения его определенно человеческие. Пока передняя нога прижимает ветку кокосовой пальмы, кончиком хобота Дамо одним изящным движением обдирает листья. Он шмякает пучком листьев о ствол дерева, стряхивая с них насекомых, а потом аккуратно кладет на губу. Пока слон жует, хобот опять повисает вниз, но затем, как беспокойный шаловливый школьник, сдергивает полотенце с плеча Унни и машет им, как флагом, прежде чем Унни вырывает полотенце обратно.
– Если бы мой Маленький Дружок мог вытворять такие штуки, как его хобот, – слышит она, как бормочет маленький кузнец, – я бы запросто дотянулся и нарвал манго или даже кокосов.
Она видит, как ДжоДжо внимательно прислушивается, украдкой щупая себя между ног. И поскорее убегает, прижимая ладонь ко рту, а когда детвора уже не может расслышать, разражается безудержным хохотом.
Тем вечером она подает мужу меен вевичатху. Попробовав, он одобрительно кивает. Скоро будет уже пять лет, но она по-прежнему переживает за свою стряпню.
– Когда я готовила, пришел Дамо и подглядывал в окно кухни.
Муж смеется, качая головой.
– У тебя есть рис с гхи, я угощу его вечером? – Лицо у него, как у ДжоДжо, когда тот выпрашивает еще немножко манго.
– Но он уже съел целое ведро, – говорит она.
– О, вот как? Ну что ж, тогда…
– Но у меня есть еще.
Муж доволен.
– Дамо раньше никогда не приходил в кухню. Это значит, ты ему нравишься, – говорит он, лукаво поглядывая на нее.
Она откладывает газету и идет в кухню приготовить еще риса с гхи.
Да, я знаю, что Дамо меня любит. Он пришел поздравить меня с днем рождения. Я знаю, о чем он думает. А вот что у тебя на уме, мне никогда не понять.
Она возвращается с рисом для Дамо, но муж не обращает внимания на ведерко. Движением брови предлагает ей сесть и кладет на стол перед ней маленький, завязанный шнурком тряпичный мешочек. Она вынимает оттуда две крупные тяжелые золотые серьги, затейливо украшенные снаружи, но полые внутри, иначе под их весом разорвались бы уши. Филигранная гайка скрывает штифт и винт. Она не верит своим глазам. Неужели ей и вправду принадлежат теперь эти куну́кку?[44] Так вот почему ювелир сновал туда-сюда весь последний месяц. Всю жизнь она восторгалась кунукку. Их продевают не сквозь мягкую часть уха, а через изгибающийся ободок наверху, где он истончается, подобно губе морской раковины. Нужно проколоть хрящ, а потом расширить отверстие, вставляя в него листья пальмы арека, пока оно не станет достаточно большим, чтобы поместился толстый стержень. Многие женщины носят только сам стержень, а по особым случаям, когда присоединяют кольца, те торчат над ушами, как сложенные ладони.
В отличие от большинства невест, которые приносят драгоценности в качестве приданого, у нее были лишь обручальное кольцо, тонкое золотое минну, которое он надел ей на шею во время церемонии, да еще пара золотых гвоздиков, ее собственных, которые ей подарили в детстве, когда впервые прокололи уши в пять лет.
Она поверить не может, что муж помнил про ее день рождения, ведь никогда раньше он никак не давал этого понять. И теперь нет слов уже у нее. Муж не заглядывает в газету, но он земледелец и потому внимательно следит за датами и временами года. Слышно, как вдалеке пучки листьев шмякаются о ствол дерева – звуки трапезы Дамо. Не впервые она задумывается, а не в сговоре ли эти два гиганта.
Когда она собирается с духом и решается посмотреть ему в глаза, муж улыбается. Не говоря ни слова, он выходит, прихватив ведро с рисом; он будет спать на койке рядом с Дамо, пока Унни навещает дома свою жену.
Когда Дамо в Парамбиле, земля дрожит под его ногами. Звук кормежки – треск веток, шуршание листьев – успокаивает ее. Но спустя несколько дней Дамодаран возвращается на лесную делянку – как и тамб’ран, он лучше себя чувствует, когда работает. Без него тишина в Парамбиле кажется всеобъемлющей.
Той ночью она уже засыпает, как вдруг появляется муж. Она подскакивает, встревоженная, недоумевая, что случилось. Его фигура заполняет дверной проем, заслоняя свет. Но лицо спокойное, ободряющее. Все хорошо. В одной руке он держит крошечную масляную лампу, а другую протягивает к ней.