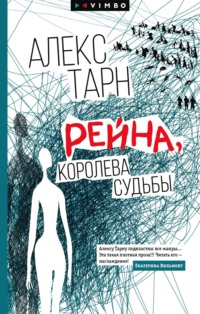Полная версия
Четыре овцы у ручья
– Ты сравниваешь Моше Рабейну и этот сброд?
Старик вздыхает:
– Выслушай, Шимон, рассказ пастуха. Четыре овцы подошли к ручью, чтобы напиться. Первая, недолго думая, бросилась к воде, оступилась, и быстрый поток унес ее к смерти. Вторую настолько потрясла гибель подруги, что она тронулась рассудком и принялась заполошно бегать вокруг, забыв, кто она, откуда и зачем пришла. Третья, глядя на них, решила вовсе отказаться от чистой воды и стала выживать, утоляя жажду из мутных отвратительных луж. Напилась из ручья лишь четвертая – та, которая не желала уступать, но помнила об осторожности и не подчинилась ни страху, ни безумию. Душа человеческая – тот же поток. Далеко не всякий способен заглянуть в нее и при этом уцелеть.
– Неужели это настолько опасно?
– Как видишь, – улыбается он. – Суть мира обманчиво проста, и очень многие не в силах это переварить. Нужно защитить таких овец от гибели и сумасшествия. Если ты откроешь им истину чересчур поспешно, они бросятся вперед очертя голову и непременно утонут в первом же омуте, принятом ими за отмель. Другие либо не поверят, либо примут тебя за мошенника, откажутся от света и примутся выдумывать другие объяснения, столь же темные, сколь и безумные. А третьи… С этими хуже всего: они отрекутся, прекратят поиски и приникнут губами к лужам.
– Что же делать? Как защитить их от истины? Лгать?
Акива смотрит на меня, будто увидел впервые:
– Ни в коем случае, Шимон! Как ты мог такое подумать?
– Тогда как?
– Так же, как Моше вел их сюда, вызволив от фараона. Надо петлять, возвращаться, снова уходить в пустыню, долго ждать неизвестно чего, упрекать, оправдывать, обвинять, угрожать, прощать и снова петлять, и снова возвращаться. Надо выстроить вокруг истины огромный лабиринт многолетней учебы, сложных обычаев, подробнейших описаний, нелепейших обсуждений – так, чтобы человек бродил там годами, подбирая по дороге намеки, постепенно вникая в их смысл, сменяя толкования одних и тех же вещей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.