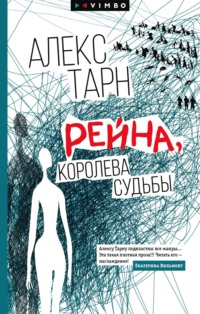Полная версия
Четыре овцы у ручья

Алекс Тарн
Четыре овцы у ручья
© Тарн А., 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство АЗБУКА®


Алекс Тарн – прозаик, драматург, поэт, переводчик, и в каждой из этих ипостасей он талантлив, а потому востребован и любим читателями и признан профессиональным сообществом. Доказательство тому – множество литературных премий и номинаций: имени Марка Алданова (2009), Юрия Штерна (2014), Эрнеста Хемингуэя (2018). Кроме того, Алекс Тарн – финалист Русского Букера (2007), лонглистер премии «Большая книга», неоднократный лауреат Русской премии.
– Рабби… рабби…
Я делаю вид, что не слышу, ведь только-только удалось согреться и почувствовать тепло в ногах. Мне не хочется шевелиться, чтобы не упустить долгожданное ощущение уюта, которое, как дикая уличная кошка, постоянно норовит выскользнуть наружу – в каменный холод иерусалимской зимы. Когда строишь кокон из дюжины дырявых байковых одеял, то, сколько ни подтыкай-подтягивай, неизбежно остаются щели. В них-то уют и выскакивает. Уют выскакивает, кашель возвращается.
– Рабби… рабби…
Судя по голосу, это Меир, называющий себя моим учеником. Теперь ученик еще и постукивает по стене, чему я его точно не учил. С этой целью Меир самостоятельно отыскал и положил возле ниши небольшой, но очень звонкий камень величиной с кулак. Каждый раз, выходя наружу, я борюсь с искушением отфутболить эту чертову стучалку куда подальше – борюсь и побеждаю, как обычно. У меня хорошо получается бороться с собой. Думаю, я один из лучших в мире мастеров этого вида боевых единоборств – не ниже черного пояса. Точнее, серого – по цвету опоясывающих меня байковых одеял. А в случае с камнем Меира мне даже не приходится особенно напрягаться для победы. Во-первых, жаль человека: не найдя своего инструмента, бедняга будет стучать в стену костяшками пальцев и непременно поранится в кровь. Во-вторых, через день-другой он все равно принесет новый каменный кулак взамен отфутболенного. И в-третьих, мой самозваный ученик так или иначе продолжит надоедать мне – с камнем или без камня.
Тук-тук. Тук-тук.
– Войди! – сдаюсь я.
Меир, как всегда, входит в три приема. Сперва отодвигает край тяжелой прорезиненной шторы, которая отгораживает нишу от улицы, и с полминуты почтительно смотрит в щелку. На следующем этапе он просовывает в щель голову и крутит ею туда-сюда, как будто проверяя, все ли в порядке. Не вознесся ли я на небеса? Не появилось ли здесь за время его отсутствия еще одного мастера боевых единоборств? Не увеличилась ли ниша каким-нибудь волшебным образом? Убедившись, что ответы на эти и подобные им вопросы одинаково отрицательны, Меир наконец просачивается в крошечное пространство, свободное от магазинной тележки с вещами, стопок книг, листов гофрированного картона и толстого кокона дырявых байковых одеял с человеческой начинкой-личинкой внутри. Таковы моя роль и мое назначение: личинка. Я – всего лишь личинка, хотя Меир зовет меня великим рабби-чудотворцем и твердо намерен убедить в этом весь остальной мир. Минуту-другую он стоит неподвижно, поблескивая глазами в скудном свете масляной лампы.
– Как себя чувствует великий рабби? – спрашивает Меир, ощупывая заботливым взглядом мое лицо, вернее оставленную на съедение холоду узенькую полоску между байковым коконом и старой солдатской шапкой-ушанкой. Все в этом мире нуждается в питании – даже холод.
– До твоего прихода все было хорошо, – отвечаю я. – А что будет дальше, одному Богу известно.
Меир страдальчески кривит лицо. Он искренне полагает, что действительно станет учеником, если будет вести себя со мной как испуганный школьник с учителем. Сколько их было таких – не сосчитать. Человеческая память хранит лишь немногие имена: Элазар, Хаим, Натан… а теперь вот Меир. Как и его предшественники, он непрерывно строчит что-то в своей тетрадке с нескрываемым намерением издать потом книгу божественных откровений «великого рабби». Потом – это после моей смерти, когда уже некому будет возмутиться и опровергнуть написанную там чушь. К сожалению, ждать ему осталось недолго. Мне уже тридцать восемь, а личинки этого вида, как правило, не дотягивают до тридцати девяти.
Меир покаянно шмыгает носом.
– Я бы никогда не осмелился нарушить покой великого рабби, но тут особенный случай… – скороговоркой произносит он и продолжает после секундной паузы: – Спасение жизни! Даже двух: роженицы и ребенка!
– Твоя жена снова рожает?
– Нет-нет! – восклицает ученик. – Моя Двора, слава Создателю и великому рабби-чудотворцу, благополучно разрешилась от бремени полгода назад. Речь не обо мне, а о другом человеке. Он ждет снаружи и молит Всевышнего, чтобы великий рабби согласился принять его прямо сейчас. Дело не терпит отлагательств.
Я с трудом перебарываю вспышку гнева: справиться с таким противником нелегко даже обладателю серого пояса.
– Сколько раз тебе повторять: перестань водить ко мне просителей! Я не могу им помочь. Я не чудо-врачеватель и не специалист по бесплодию. Я личинка, слышишь? Личинка!
Меир часто-часто кивает, явно пропуская мои слова мимо ушей. Парадоксальным образом, чем чаще я говорю о своей ничтожности, тем сильнее он убеждается в моем величии. К сожалению, этот парадокс работает только в одном направлении: если я, напротив, стану утверждать свою беспрецедентную гениальность, мой так называемый ученик придет в еще больший восторг поклонения. Лучше не говорить вообще ничего, и я умолкаю. Впрочем, из усмиренного гнева тоже можно извлечь кое-какую пользу: как и всякая вспышка, он генерирует тепловую энергию, так что я окончательно согреваюсь в своем коконе.
– Да простит меня великий рабби, но я решил, что это особенный случай, – с унылой непреклонностью мямлит Меир. – Человек в полном отчаянии. Жена никак не может родить вот уже третьи сутки. Муки ужасные. Врачи – полные дураки. Он уже все перепробовал, звал разных докторов-профессоров, ничего не выходит. И вот кто-то посоветовал ему обратиться к великому рабби. Кто-то, кому великий рабби когда-то помог…
– Никому рабби не помогал! – рявкаю я. – И никакой он не великий! И не рабби вообще! Оставьте меня… его… меня… Оставьте меня в покое!
Пока я путаюсь в местоимениях, Меир часто-часто кивает в знак заведомо непреклонного согласия с каждым моим словом, но при этом не намерен сдвинуться ни на миллиметр.
– Да простит меня великий рабби, – продолжает он, зачем-то перейдя на шепот, – но этот несчастный не из тех, кто ходит к каббалистам и ездит на святые могилы. Он из образованных и, по-моему, вообще не носит кипы, прости господи… Если уж такой человек решается припасть к ногам великого рабби, то, значит, совсем припекло. Может ли великий рабби прогнать человека в подобном несчастье?
И я снова сдаюсь: просто не могу вынести такое количество обрушившихся на меня «великих рабби», не говоря уже о том, что очень неловко перед отчаявшимся человеком, который покорно ждет под дождем.
– Хорошо, зови. Или нет, подожди. Не зови, просто отодвинь занавеску. У него ведь есть зонтик? Пусть остается снаружи.
– Откуда великий рабби знает про зонтик? – восторженно шепчет Меир. – Хотя чему я удивляюсь…
Мне остается только вздохнуть: сам того не желая, я подарил восторженному «ученику» еще одно доказательство своей чудотворной прозорливости. И пусть нет ничего сверхъестественного в предположении, что в дождливую погоду люди пользуются зонтом, – Меира вовсе не волнуют соображения элементарной логики. Вернувшись домой, он достанет заветный блокнот и опишет этот случай своими словами, подключив к делу еще и буйное воображение. Дождь в его пересказе превратится в морскую бурю, иерусалимская улица – в гибнущий корабль, а скромный зонтик – в спасительную лодку, посланную великим рабби-чудотворцем на помощь тонущему бедняге. Но что я могу с этим поделать? Ничего. Ровным счетом ничего, разве что вздохнуть.
Итак, я вздыхаю и сдвигаю с подбородка верхний край кокона, потому что меня уже бросает в жар от всей этой дурной и бессмысленной суеты. Или, что вернее, от болезни, убивающей таких личинок, как я. Личинка и личина – эти два слова почти не отличаются друг от друга. Если надо поддержать впавшего в отчаяние человека, даже личинке не грех натянуть на себя личину «великого рабби». Что я и делаю, но Меир по-прежнему мнется, жмется и не двигается с места.
– В чем дело, Меир? Я сказал тебе отодвинуть штору.
– Великий рабби помнит, что снаружи льет как из ведра? Дождь попадет сюда, замочит вещи, книги, одеяла…
Вещи, книги, одеяла… Что за ерунда… Вещи высохнут, одеялам не помешает стирка, а книгам уже ничего не страшно. Книги уже умерли однажды от стыда за людей, когда наследники умерших стариков, едва отсидев шиву, выставили эти некогда прилежно хранимые тома на улицу, к мусорным бакам. Выбросили, чтобы освободить место на полках для бессмысленных сувениров своего бессмысленного шатания по модным туристическим тропам. Для древесной маски из Африки и гипсовой маски из Венеции. Для стеклянных шаров с аляповатыми моделями Китайской стены и мексиканского зиккурата. Для расчески Поттера и парика Элвиса. Для синайской дарбуки, индийского барабана, индонезийского калебаса и прочего бесполезного мусора, унижающего человеческий глаз. А книги… книги отправились на помойку ввиду полной ненадобности.
Там, возле баков, я и подбираю эти бумажные трупики – стопками, сколько могу унести, вернее, увезти в своей тележке, которая напоминает в такие моменты похоронную телегу в разгар чумы. Я не тешу мертвецов иллюзией возрождения, так что вряд ли их теперь испугают брызги дождевой воды, тем более что многие тут уже прошли через ливень-другой. Напротив: униженные позором радуются потопу. Нет-нет, обитатели ниши не боятся дождя.
Но есть и другие причины, по которым я прошу отодвинуть штору. В тусклом свете лампады не видно лица, а мне хочется получше разглядеть своего просвещенного современника, который настолько отчаялся, что пришел за помощью к бомжу, да еще и не просто к бомжу, а к бомжу-чудотворцу. Кроме того, внутри не слишком хорошо пахнет: бомжи редко моются. Стыдливость – одна из немногих человеческих слабостей, которую личинке так и не удалось задушить серым мастерским поясом.
– Меир, сейчас же отодвинь штору! – командую я. – Отодвинь штору или проваливай отсюда вместе со своим протеже!
Сокрушенно покачав головой, Меир берется за нижний угол занавески и задирает его. Поскольку закрепить занавеску в таком положении нечем, он вынужден остаться в этой неудобной позе, напоминая то ли железнодорожный семафор, то ли стоячую вешалку, то ли безмолвного атланта, поддерживающего небесный свод моего мира. Долго ему так не продержаться, что, безусловно, совпадает с моими интересами.
В открывшемся светлом треугольнике я вижу переулок, уходящий вниз к улице Агриппас, вижу блестящие от дождя бугристые стены, вижу бегущие по мостовой струйки воды и тесно припаркованные у противоположного тротуара горбатые автомобили. Меир, как обычно, преувеличил: льет не так уж сильно, совсем не как из ведра. Во время среднего иерусалимского ливня эта улочка превращается в горный ручей, а уж когда в небесном Иерусалиме прорывает трубу, поток и вовсе поднимается выше тротуара, затопляя эту нишу, листы гофрированного картона, книги и кокон. Но это случается не так часто, не каждый год. Скорее всего, я умру раньше, чем на город снова налетит по-настоящему большая буря. Мне неприятно думать об этом, глядя на скромные, не по-иерусалимски умеренные ручейки. Неужели личинке не суждено хотя бы еще разок порадоваться оглушительной сшибке беременных грозой облаков, ветвистой молнии на полнеба, хлещущим водопадам переулков и полноводным рекам улиц?
Я поднимаю глаза от мостовой и утыкаюсь взглядом в человека с зонтом. Он невелик ростом – чуть ниже среднего – и хорошо одет: крепкие ботинки на толстой подошве, модные джинсы, модная куртка, модные очки. К светлым прямым волосам пришпилена черная кипа – из тех, какие раздают гостям на богатых свадьбах. Кипа торчит неуместным горбом, как седло на собаке, и, видимо, вынута из автомобильного бардачка, где лежала вместе с другим случайным хламом, специально по случаю визита к «великому рабби». Типичный инженер или программист из хайтека – успешный, много зарабатывающий, просиживающий по десять-двенадцать часов в сутки за монитором и еще по полтора-два часа в автомобильных пробках. Работа, тренировочный зал три раза в неделю, утренняя пробежка, вечерний телевизор, на выходных – велосипед, барбекю с армейскими приятелями и клуб с оглушительной музыкой.
На вид гостю лет тридцать пять, он немногим младше меня, но выглядит совершеннейшим младенцем. Что неудивительно: при таком режиме человеку некогда притормозить, чтобы подумать. Просто подумать – о чем угодно, необязательно о смысле безостановочной беготни, которая заглатывает его, как питон теленка. Разница лишь в том, что заглатываемый теленок знает о своей участи, а этот несчастный ошибочно полагает, что жизнь удалась. Так он полагает – притом что на самом деле челюсти уже сомкнулись над его головой, и, скованный железными мышцами повседневности, он совершает бесчувственное движение по змеиному пищеводу в направлении змеиного заднего прохода, откуда лет через сорок-пятьдесят выпадут ботинки, очки, одежда и прочие несъедобные приложения.
Странно ли, что при столкновении с реальностью этот на четверть переваренный бедняга понятия не имеет, как поступить, к кому бежать, какие молитвы повторять? Я вижу его насквозь: чтобы понимать телят, не требуется быть «великим рабби», достаточно выплюнуть жвачку, поднять голову от травы и годик-другой понаблюдать за стадом и за самим собой. Растерянность в глазах гостя сменяется страхом, и он опускает взгляд.
– Не бойтесь, – говорю я. – Обещаю, что не скажу вам всей правды. Что случилось?
Он сглатывает слюну, на мгновение забывает держать зонтик против ветра, и тот радостно выворачивает спицы наизнанку, коленками назад. Какое-то время человек борется с этим рвущимся из рук гигантским многосуставным кузнечиком, потом комкает зонт как попало и тут же хватается за голову, обнаружив, что свадебная кипа слетела и безвозвратно уплыла в сторону улицы Агриппас.
– Извините, – в отчаянии произносит он. – Я даже не знаю, что я… не знаю, зачем…
Я ободряюще улыбаюсь.
– Это заметно. Меир сказал, что у вашей жены трудные роды…
Гость с готовностью кивает, наклоняя для верности не только голову, но и всю верхнюю часть туловища.
– Да! Очень. Врачи ничего не объясняют. Я уже не уверен, понимают ли они что-нибудь. Если вы можете помочь, я буду очень вам благодарен. Очень… – он бросает быстрый взгляд на Меира.
Меня передергивает. Неужели этот сукин сын – ученик – по-прежнему выманивает у просителей деньги? Если так, то он у меня дождется… Но это потом, пока нужно успокоить отчаявшегося теленка. Я выпрастываю из кокона руку, стаскиваю с головы шапку, с полминуты пристально вглядываюсь в нее, затем поднимаю взгляд:
– Послушайте меня. Все будет в порядке. Я вижу это так же ясно, как вас. Все, можете идти.
– Все? – недоверчиво повторяет он.
– Все, – твердо отвечаю я.
Конечно, то же самое я мог бы сказать ему и без разглядывания шапки, но с шапкой слова выглядят намного убедительней. Телята верят в сверхъестественные чудеса, но сверхъестественность в их понимании неполна без колдовских жезлов, ковров-самолетов, чудесных зеркал, старых книг и прочих обыкновенных вещей, притворяющихся волшебными. По-хорошему, сейчас нужно было бы взять какой-нибудь растрепанный том и сделать вид, будто вычитываешь ответ оттуда, но мне ужасно не хочется вылезать из-под одеял. Тем более что шапка, как показывает опыт, работает ничуть не хуже прочих вуду-предметов.
– А как же… – начинает гость и вдруг принимается судорожно шарить по карманам.
Теперь и я слышу дребезжание мобильника. Человек смотрит по сторонам в поисках места, где можно было бы укрыть телефон от дождя, и за неимением иного варианта просовывает голову в нишу.
– Да! – кричит он в трубку. – Мама?! Да! Ну, говори же!.. Что? Что? Скажи еще раз…
Потом он опускает руку с мобильником, не замечая воды, стекающей по рукаву на экранчик дорогого айфона. Он смотрит на меня взглядом, в котором мешаются благодарная радость и нарастающее восхищение.
– Что? – спрашиваю я. – Родила?
Теленок кивает, не в состоянии вымолвить ни слова.
– Ну и слава Богу. Теперь беги к ней. Что ты стоишь? Беги!
Гость еще раз кивает и, подхватившись, пускается бегом вниз по переулку. Меир опускает штору. Он молчит, но в этом молчании громы и молнии. Сегодня ему будет о чем написать в блокноте. Ну как же: волшебная шапка, впитавшая мысли великого рабби-чудотворца, – о таком сюжете можно только мечтать! Боже, как это надоело… Если бы в мире и впрямь существовали волшебные шапки, я попросил бы прежде всего шапку-невидимку.
– Меир, что он там говорил о благодарности?
Мой самозваный ученик откашливается, прочищая горло, перехваченное судорогой восторга.
– Великому рабби… – пискливо начинает он, откашливается еще раз и продолжает уже более-менее обычным своим голосом: – Великому рабби пришлась бы очень кстати теплая одежда и новая обувь. Известно, что даже святой цадик Зуся Аннопольский принимал…
– Молчать! – перебиваю его я. – Молчать! Слушай внимательно, Меир, слушай и запоминай каждое слово. Если ты в благодарность за мою помощь осмелишься хотя бы один разок взять у кого-нибудь из просителей хоть что-нибудь, будь то самая мелкая медная монетка, или самая дешевая вещичка, или что-либо еще помимо простого «спасибо», я немедленно прогоню тебя прочь, навсегда. Запомнил? Запомнил?
– Запомнил… – глухо повторяет Меир.
– Иди.
Он благоговейно кланяется, выскальзывает за штору, и я остаюсь наедине с душой – с бабочкой, которая вот-вот выпорхнет из личинки. Но перед этим она еще успеет научить меня новому знанию, которое осветит прошлое, приоткроет будущее и порадует глаз неизбывной красотой Творения. В этом знании нет так называемой практической пользы, то есть информации о местонахождении пастбищ и качестве тамошней травы, зато есть пронзительное счастье постижения мира – счастье, о существовании которого многие телята даже не подозревают. За свою недлинную бестолковую жизнь я потерял годы драгоценного времени, растратил его попусту, бездумно и безоглядно, и теперь приходится дорожить каждой минуткой. Поэтому я здесь, в этом коконе, максимально свободный от лишних вещей, лишних обязательств, лишних забот и лишних людей, наедине с нею. Нас всего двое в нише: только я и она – душа, которую я и рад бы назвать своей, но не могу, поскольку она принадлежит очень и очень многим.
2Когда ребенок рождается, ему ни капельки не скучно. Но затем родители суют в младенческий кулачок погремушку и тем отвлекают маленького человечка от диалога с его внутренним собеседником, то есть от главного дела, ради которого он явился на свет. Мы – это то, чему научила нас душа, временно поселившаяся в нашем теле. Ее первые уроки кажутся прекрасными и полезными, но их немедленно заглушает грохот погремушек, треск аляповатых пластмассовых шаров и мельканье разноцветной канители. В итоге младенец за неимением иного выбора принимается следить взглядом за пустой чепухой, подвешенной взрослыми перед его сопливым носом.
Чепуха не учит ничему, но приучает к себе, и душа, пожав плечами, удаляется в глухой закоулок – ждать, когда ее в очередной раз выпустят на волю. Она уже повидала множество человеческих личинок и могла бы рассказать уйму всего об устройстве мира, о жизни и даже о смерти, если бы только нашелся заинтересованный слушатель. Однако шарики над колыбелью сменяются куклами и машинками, песчаными замками и велосипедными педалями, тетрадками и футболом, брачными танцами и мрачными попойками, одуряющей работой и отупляющим телевизором, а кроме того, еще и покупкой новеньких погремушек для свеженьких новорожденных. Время от времени душа, улучив редкий момент, когда ее временному хозяину решительно нечем заняться, робко напоминает о своем присутствии, но теперь это лишь пугает личинку. Теперь личинка, так и оставшаяся невеждой, пустым листом, нетронутым полем, готова на все, лишь бы заглушить звучащий внутри голос.
В этом, собственно говоря, и заключается природа скуки, которая представляет собой не что иное, как панический страх оказаться наедине с одолженной человеку душой. Да-да, скука – это всего лишь страх, страх перед знанием, которое непременно окажется неприятным, ведь, помимо всего прочего, оно содержит в себе еще и рассказ о потерянном времени, то есть о близкой смерти, а о смерти смертной личинке смерть как не хочется думать. И тогда она кричит во все горло, перекрикивая свой потный унизительный страх: «Мне скучно! О, как мне скуу-у-учно! Я просто умираю со скуки! Принесите же поскорей новую погремушку, бутылку, таблетку, женщину, поездку, вещь – и желательно подороже!..»
В детстве я боролся со скукой при помощи компьютерных игр – тогда они только появились. Нет ничего проще, чем самозабвенно убивать недели и месяцы в погоне за экранным монстром, в поедании экранных кроликов или в стрельбе по экранным летающим тарелкам. По чьей-то дьявольской иронии успех оценивался там в дополнительных «жизнях». Зарабатывая десятки и сотни игровых «жизней», ты теряешь одну-единственную – свою. Просыпаешься утром, включаешь игралку и – вперед, до самого вечера. Часы пролетали со скоростью минут – даже в школе, если на задней парте и незаметно.
Угнетало одно: игры тех лет были довольно примитивными. Я быстро достигал максимального мастерства и тогда обнаруживал, что дальше уже действую автоматически, рефлекторно. Погремушка переставала греметь, и в моей освободившейся голове, голове юной личинки, тут же начинали звучать непрошеные мысли и голос души, которая никогда не утрачивает надежду на то, что ее наконец удостоят вниманием. Иначе говоря, мне становилось скучно.
Мои тогдашние приятели принадлежали к тому же кругу «геймеров»; мы были нужны друг другу исключительно для обмена игралками и для сопутствующей похвальбы о пройденных «уровнях» и заработанных «жизнях». Именами и прочими приметами реальной, то есть не «заработанной», жизни мы не пользовались в принципе, а наши прозвища соответствовали виртуальному миру: Пакмэн, Тетрис, Утопия, Снэйк… Меня звали Клайвом в честь сэра Клайва Синклера. Самым продвинутым геймером был Темпест – старший брат моего одноклассника, единственный студент в компании школьников. Когда я пожаловался ему на скуку, Темпест рассмеялся.
– Чего же ты ждешь? – сказал он. – Если тебе наскучили стрелялки для новичков и дебилов, усложни программу или напиши свою.
– А можно? – изумился я.
– Еще как. Правда, для этого надо выучить языки программирования. «Си», «Ассемблер», «Си-плюс-плюс»… – и он продолжил сыпать незнакомыми словами, явно рассчитывая, что я испугаюсь и отстану.
Но я не испугался. Языки всегда давались мне поразительно легко. Я ненавидел все школьные предметы, за исключением английского и арабского. Знакомство с другим языком напоминало погружение в сложную игру с ее новыми понятиями, правилами и словами, абсолютно чуждыми для непосвященных. Здесь ты тоже переходил с уровня на уровень и зарабатывал «жизни» – жизни в иной игровой среде. Пожалуй, это единственное, что хоть как-то могло отвлечь меня от компа. И если уж я за месяц научился худо-бедно болтать по-арабски, всего лишь общаясь с рабочими, которые делали ремонт нашего дома, то стоило ли бояться каких-то там языков программирования?
– Покажи мне начало, – сказал я. – Только начало, дальше я сам.
Темпест покачал головой:
– С чего это вдруг я буду тебя учить, Клайв? Уроки стоят денег.
– Сколько?
– Двести за час, – зарядил он, уверенный, что уж теперь-то я оставлю его в покое.
Деньги я взял у родителей, честно объявив, что хочу учиться программированию. Само собой, предки пришли в совершеннейший восторг: наконец-то оболтус решил заняться чем-то путным! Думаю, они согласились бы заплатить и несколько тысяч, но мне хватило двух уроков и списка литературы. Месяц спустя я написал первую игру – кривую, корявую, но свою. В тот год мне только-только исполнилось двенадцать. Так я попал в вундеркинды, хотя на деле всего лишь боролся со скукой. Со скукой, то есть с мыслями и с голосами, которые посягали на мою погремушку, на ее нескончаемый шум, оглушающий голову и заглушающий душу.
Четыре года спустя меня приняли в университет на компьютерные науки. Необходимые для этого баллы аттестата зрелости я, конечно, не заслужил – скорее, мне их выправили, невзирая на постыдную неуспеваемость по всем предметам, кроме языковых. Звание вундеркинда, как заработанный в игре волшебный ключик, открывает многие неприступные пещеры и запертые сундуки. Когда настало время призыва в армию, я остался в академическом резерве – разрабатывать систему распознавания телефонных разговоров, значимых для военной разведки. Это уже было близко к тому, чем занимается Шерут – служба контрразведки и внутренней безопасности, и я не удивился, когда они предложили перейти к ним. Меня интервьюировал массивный наголо обритый человек неопределенного возраста, попросивший называть его «кэптэн Маэр».