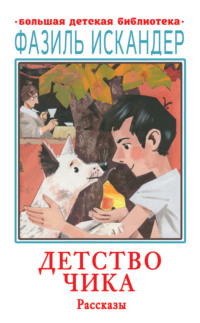Полная версия
Сандро из Чегема. Том 2
Уже к рассвету он подошел к дому чичбовцев, поджег коровник, и, когда коровы стали мычать, пытаясь выбежать из огня, братья выскочили из дому. Двух старших Адамыр убил, а младшего, совсем еще мальчика, не стал убивать, а связал ему руки и сказал матери:
– Твои сыновья уничтожили моих братьев. Я последнего твоего сына не буду убивать, но он всю жизнь будет моим рабом. Властям пожалуетесь – на месте убью, а потом что хотят пусть делают.
Итак, он, отомстив за своих братьев, пригнал бедного мальчика к гробам своих братьев и оплакал их, держа одной рукой веревку, к которой был привязан мальчик. И он дал слово братьям до смерти держать рабом последнего чичбовца. Мальчика звали Хазарат.
И люди дивились этому случаю. Некоторые хвалили Адамыра, что он не убил мальчика, некоторые сердились, что он хочет сделать из него раба, а некоторые говорили, что это он сгоряча так решил, а потом остынет и отпустит мальчика.
Но он его не отпустил и около двадцати лет держал в сарае на цепи, как раба. Нашим чегемским старикам это очень не понравилось, но они ничего не могли с ним поделать. Такой он был яростный, одичавший человек. Если бы он жил в самом Чегеме, они бы его, конечно, изгнали из села, но он жил в стороне и никому не подчинялся. Они только ему передали, чтобы он не появлялся в Чегеме.
А власти в те времена вообще на это мало внимания обращали. Если в долинном селе кровник убивал врага и не уходил в лес, его арестовывали. Если уходил в лес, его даже и не искали. Но если кто-то убивал полицейского и писаря, они во что бы то ни стало старались найти убийцу и наказать его. А тут еще бедная мать Хазарата боялась, что он убьет его, и никому не жаловалась.
Адамыр так и не женился, потому что абхазцы стыдились отдавать за него своих дочерей, хотя он несколько раз сватался.
«А как отдашь за него дочь, – рассуждали они, – приедешь в гости к дочери, а там раб. А зачем мне это?»
И так они жили много лет, а потом умерла мать Адамыра, и они остались вдвоем – Адамыр и его раб Хазарат.
Несколько раз в году бедная мать Хазарата посещала своего сына, приносила ему хачапури, жареных кур, вино. Все это Адамыр ей разрешал. Еще он ей разрешал один раз в году стричь ему волосы и бороду и три раза в году разрешал ей купать его. И так, бывало, мать приедет к сыну, дня два посидит возле него, поплачет и уедет.
И вот, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я решил освободить Хазарата. Вообще, когда человек молодой, ему всегда хочется освободить раба. Несмотря на молодость, я был уже тогда очень хитрый. Но как освободить? Адамыр больше чем на один день никуда не уезжал. А когда уезжал, собаки никого близко к дому не подпускали.
И вот я потихоньку от домашних сошелся с Адамыром. Если б отец узнал об этом, он бы меня выгнал из дому. Он Адамыра вообще за человека не считал. Наши абхазцы знали, что есть рабство и иногда турки нападали и уводили людей в рабство, но чтобы абхазец сам у себя держал раба, этого не знали.
И вот я постепенно сошелся с Адамыром, делая вид, что интересуюсь охотой, а про раба не спрашивал. Охотник он был редкий, что такое усталость и страх, не понимал.
И вот уже мы с ним несколько раз были на охоте, уже собаки ко мне привыкли и он тоже привык, потому что хотя и свирепый человек, но скучно все время одному. И однажды перед охотой он мне говорит:
– Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.
– Хорошо, – говорю, как будто не интересуюсь Хазаратом.
И он мне дает котел молока и полбуханки чурека.
– А ложку, – говорю, – не надо?
– Какую ложку, – кричит, – слей молоко ему в корыто и брось чурек!
И вот я наконец вхожу в этот сарай. Вижу, в углу на кукурузной соломе сидит человек, одетый в лохмотья, с бородой до пояса, и глаза сверкают, как два угля. Страшно. Рядом с ним вижу длинное корыто, а с этой стороны под корыто камень подложен. Значит, наклонено в его сторону. Из этого я понял, что Адамыр тоже к нему слишком близко не подходит. Я уже слышал, что Хазарат однажды, когда Адамыр слишком близко к нему подошел, напал на него, но Адамыр успел вытащить нож и ударить. Рана на Хазарате зажила быстро, как на собаке, но с тех пор Адамыр стал осторожнее. Об этом он сам людям рассказывал.
Я сливаю Хазарату молоко в корыто и говорю ему:
– Лови чурек!
Я так говорю ему, потому что неприятно человеку на землю хлеб бросать, а подойти, конечно, боюсь.
Бросаю. Он – хап! Поймал на лету, и тут я услышал, как загремела цепь. К ноге его была привязана толстая цепь.
Он начал кушать чурек и иногда, наклоняясь к корыту, хлебать молоко. Это было ужасно видеть, и я окончательно решил его освободить. Особенно ужасно было видеть, как он хлебает молоко, жует чурек и иногда смотрит на меня горящими глазами, а стыда никакого не чувствует, что при мне все это происходит. Привык. Человек ко всему привыкает.
И так все это длится несколько месяцев, я все присматриваюсь, чтобы устроить побег Хазарата. И боюсь, чтобы Адамыр про это не узнал, и боюсь, чтобы мои домашние не узнали, что я хожу к Адамыру.
И теперь уже Адамыр ко мне привык и каждый раз перед охотой говорит:
– Я покормлю собак, а ты покорми моего раба. – И я его кормлю. Он ему кушать давал то же самое, что сам ел. Только в ужасном виде. Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого – бросал ему кусок сырого мяса. Возле него лежало несколько кусков каменной соли, какую скоту дают у нас.
Сейчас, как я слышал, некоторые дураки из образованных кушают мясо в сыром виде. Думают, полезно. Но люди тысячелетиями варили и жарили мясо, неужели они бы не догадались кушать его в сыром виде, если б это было полезно?
Теперь, что делал Хазарат? Он делал только два дела. Он молол кукурузу, руками крутил жернова. Они рядом с ним стояли. От этого у него были могучие руки. И еще он плел корзины. Прутья ему сам Адамыр приносил. Эти корзины Адамыр продавал в Анастасовке грекам, потому что чегемцы у него ничего не брали.
За несколько месяцев Хазарат ко мне привык, и, хотя глаза у него всегда сверкали, как угли, я знал, что он меня не тронет, и близко к нему подходил. Он с ума не сошел и разговаривал, как человек.
И однажды я встретил его бедную мать и тогда еще больше захотел его освободить. Она постелила полотенце на кукурузной соломе, положила на нее курятину, хачапури, поставила бутылку с вином и два стакана.
Мы с ним ели вместе, хотя мне, честно скажу, было это неприятно. А как может быть приятно кушать, когда рядом яма, где он справлял свои телесные дела? Правда, рядом с ямой деревянная лопаточка, которой он все там засыпает. Но все же неприятно. Но я ради его матери сел с ним кушать. А бедная его мать, пока я рядом с ним сидел, все время гладила меня по спине и сладким голосом приговаривала:
– Приходи почаще, сынок, к моему Хазарату, раз уж мы попали в такую беду. Ему же, бедняжке, скучно здесь… Приходи почаще, сынок…
А в это время Адамыр в другом конце сарая стругал ручку для мотыги. Оказывается, он услышал ее слова.
– А мне тоже скучно без моих братьев, – сказал он, не глядя на нас и продолжая ножом стругать ручку для мотыги.
– Эх, судьба, – вздохнула старушка, услышав Адамыра. И я вдруг почувствовал, что мне всех жалко. В молодости это бывает. И Хазарата жалко, и Адамыра жалко, и больше всех жалко эту старушку.
Особенно мне ее жалко стало, когда я увидел в тот день, что она стирает и латает белье Адамыру. Она ему старалась угодить, чтобы он смягчился к ее сыну. Но он уже не мог ни в чем измениться.
Однажды на охоте Адамыр мне сказал:
– Некоторые думают, что я держу раба для радости. Но раба держать нелегко, и радости от него нет. Иногда ночью просыпаюсь от страха, что он сбежал, хотя умом знаю, что он сбежать не мог. За одну ночь о жернов нельзя перетереть цепь. Я уже проверил. А днем я всегда замечу, если он ночью цепь перетирал. Да если и перетрет, куда убежит? Сарай заперт. А если выйдет из сарая, собаки разорвут. И все-таки не выдерживаю. Беру свечу, открываю дверь в сарае и смотрю. Спит. И сколько раз я его ни проверял, никогда не просыпается. Так крепко спит. А я просыпаюсь каждую ночь. Так кому хуже – мне или ему?
– Тогда отпусти его, – говорю, – и тебе полегчает.
– Нет, – говорит, – перед гробом братьев я дал слово. Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.
И вот, значит, я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На дверях большой замок, а ключ всегда в кармане у Адамыра. Но он изредка уезжал на день или на ночь. И я так решил: сделаю подкоп, напильником перепилю ему цепь, выведу его, чтобы собаки не разорвали, и отпущу на волю. А потом, когда Адамыр вернется, если будет бушевать, я ему подскажу, что, наверное, мать Хазарата принесла ему напильник в хачапури, а подкоп он сам устроил своей деревянной лопатой и от собак как-то отбился. Я, конечно, знал, что он мать Хазарата не тронет.
Вот так я решил, и однажды Адамыр мне сам на охоте говорит:
– Слушай, Сандро, приди ко мне завтра вечером и покорми собак. Мне надо завтра ехать в Атары, я приеду послезавтра утром.
– Хорошо, – говорю.
И вот на следующий день еле дождался вечера. Наши все поужинали и легли спать. Тогда я тихонько встал, взял из кухни фонарь, напильник и пошел к дому Адамыра.
Иду, а самому страшно. Боюсь Адамыра. Боюсь – может быть, он что-то заподозрил о моих планах, притаился где-то и ждет. И я решил, до того как начинать подкоп, обшарить его дом. А если он дома и спросит, что я так поздно пришел, скажу: вспомнил, что собаки не кормлены.
Собаки за полкилометра, почуяв человека, с лаем выскочили навстречу, но, узнав меня, перестали лаять. Я вошел во двор Адамыра, огляделся как следует, потом зашел на кухню, оттуда в кладовку, потом обшарил все комнаты, но его в доме не было.
Тогда я прошел на скотный двор и увидел, что там лежат его три коровы. Вошел в коровник, повыше поднял фонарь и увидел, что там пусто. Тогда я вернулся на кухню, достал чурек, которым собирался кормить собак, но не стал их кормить, а набил кусками чурека оба кармана. Я это сделал для того, чтобы передать чурек Хазарату. Чтобы, когда мы выйдем из сарая и собаки начнут нападать, он им кидал чурек и этим немного собак успокаивал.
Потом я снова вошел в кладовку, снял со стены корзину, с которой собирают виноград, вышел на веранду с корзиной и фонарем и, подняв лопату Адамыра, пошел к сараю, где сидел Хазарат.
Теперь, для чего корзина? Виноградная корзина, она узкая и длинная, для того, чтобы потом, когда прокопаю ход, всю землю перетащить в сарай.
Если землю не перетащить в сарай, Адамыр догадается, что Хазарату кто-то помогал снаружи. И через это он может меня убить.
Ставлю фонарь на землю и начинаю копать точно в том месте, где была привязана цепь с той стороны сарая. Копаю, копаю и удивляюсь, что Хазарат не просыпается. В самом деле, думаю, крепко спит. Наконец все же проснулся.
– Кто ты? – спрашивает, и слышу, как зашевелился в кукурузной соломе.
– Это я, Сандро, – говорю.
– Что надо?
– Прокопаю, – говорю, – тогда узнаешь.
И вот через час я раздвинул рукой кукурузную солому, осторожно поставил фонарь и сам вылез в сарай. Хазарат сидит, и глаза, вижу, горят, как у совы.
– Вот, – говорю, – напильник. Мы перепилим цепь, и ты уйдешь на волю.
– Нет, – мотает он головой, – Адамыр со своими собаками меня все равно выследит.
– Не выследит, – говорю, – ты за ночь уйдешь в другое село, а там он и след потеряет.
– Нет, – говорит, – я отвык ходить. Далеко не смогу уйти. А близко он со своими собаками меня все равно поймает.
– Не поймает, – говорю, – а если ты боишься идти один, я пойду с тобой до Джгерды и спрячу тебя там у одних наших родственников. Потом я вернусь к себе домой, а ты пойдешь куда захочешь.
– Нет, – говорит, – я так не хочу.
– Тогда что делать? – говорю.
Он думает, думает, а глаза горят – страшно.
– Если хочешь мне помочь, – наконец говорит он, – принеси метра в два цепь. Мы привяжем ее к этой цепи, и больше мне ничего не надо.
– Зачем, – говорю, – тебе это?
– Я немножко буду ходить по ночам и привыкну. А потом ты мне поможешь убежать.
– Но ведь он проверяет свою цепь, – говорю, – он сам мне рассказывал.
– Нет, – говорит, – первые пятнадцать лет проверял, а теперь уже не проверяет.
Сколько я его ни уговаривал бежать сейчас – не согласился. И тогда я решил сделать, что он просит.
– Топор, – говорит, – принеси, чтобы сдвинуть кольца.
И вот я среди ночи почти бегу домой, залезаю в наш сарай, достаю из старой давильни, где лежит всякий хлам, цепь, примерно такую, как он просил. Возвращаюсь назад, беру топор Адамыра на кухонной веранде и вползаю в сарай. Пока я ходил, он перепилил напильником свою цепь и пропилил дырки в кольцах с обеих сторон. Я даже удивился, как он быстро все успел. У него были могучие руки от ручной мельницы.
Он взял мою цепь, вставил ее с обеих сторон в кольца, а потом, поставив эти кольца на жернов, обухом топора сдвинул их концы, чтобы ничего не видно было.
– Больше, – говорит, – ничего не надо. Иди! Когда ноги мои окрепнут, я тебе дам знать.
– Может, – говорю, – оставить тебе напильник?
– Нет, – говорит, – больше ничего не надо! Все! Все! Иди! Только с той стороны как следует землю затопчи, чтобы хозяин ничего не заметил.
И вот я, взяв топор и фонарь, осторожно вылезаю наверх.
И потом быстро, быстро заваливаю землю в дыру, а потом как следует затаптываю ее, чтобы ничего не было заметно. Собаки крутятся возле меня, но, думаю, слава богу, собаки говорить не умеют. И тут я вспомнил, что у меня в карманах чурек, и разбрасываю его собакам.
В последний раз с фонарем как следует осмотрев место, где копал, понял, что ничего не заметно, стряхнул с лопаты всю землю и отнес ее вместе с топором и корзиной назад. Все положил туда, где лежало, и так, как лежало. Потушил фонарь и бегом домой. Дома тоже, слава богу, никто ничего не заметил.
И вот проходит время, а я пока сам побаиваюсь идти к Адамыру. Прошло дней пятнадцать – двадцать. Однажды брат Махаз, он в тот день с козами проходил недалеко от усадьбы Адамыра, говорит:
– Сегодня весь день выли собаки Адамыра.
– Это и раньше бывало, – говорят наши, – он иногда уходит на охоту с одной собакой, а другие скучают.
И так об этом забыли. А через неделю слышим, женщина кричит откуда-то сверху, и крик этот приближается к нашему дому. Все, кто был дома, вышли, но никто ничего не может понять.
Крик женщины означает горе. Но он идет прямо с горы над верхнечегемской дорогой, а там никто не живет. Мы с отцом и двумя братьями, Кязымом и Махазом, быстро поднимаемся навстречу голосу женщины. Минут через пятнадцать встречаем мать Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам, ничего не видит. Смотрит на нас, но ничего не может сказать, только рукой показывает в сторону дома Адамыра.
Мы бежим туда, я не знаю, что думать, но все-таки поглядываю на Кязыма, потому что он прихватил с собой винтовку. Вбегаем во двор, а собак почему-то не видно и не слышно.
Я первым открыл сарай. Дверь была просто прикрыта. И вот что мы видим. Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он испытал перед смертью. Вся шея в синих пятнах, и голова, как у мертвой курицы, повернута.
А Хазарат лежит на кукурузной соломе, руки сложил на груди, а лицо спокойное-спокойное, как у святого. Он был до того худой, что отец сдернул цепь с его ноги, она уже не держалась. И тогда я вдруг вспомнил слова Адамыра: «Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву».
Так и получилось, как он говорил.
– Видно, – сказал мой отец, – Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазарату. А тот кинулся на него и задушил. А потом сам умер от голода, потому что некому было дать ему поесть.
Только я один знал, почему это случилось. Но, конечно, никому ничего не сказал. Между прочим, отец мой, царство ему небесное, был настоящий хозяин. Таких сейчас нет вообще. Несмотря на этот ужас, который мы увидели, он узнал свою цепь! Вижу, вдруг приподнял одной рукой и смотрит, смотрит на свет – там было узкое окно без стекла, – ничего не может понять. Он хочет повыше поднять цепь, чтобы разглядеть как следует, а цепь привязана, не идет. А он сердится, и мне смешно, хотя страшное рядом. Потом отбросил и пожал плечами.
И тут неожиданно снаружи раздались выстрелы.
Выбегаем и видим: Кязым стоит возле скотного двора и стреляет в собак Адамыра. Одну за другой убил шесть собак. Оказывается, собаки, одурев от голода, напали в загоне на собственную корову, разодрали ее и съели. А потом убили еще двух коров, хотя уже скушать их не могли. Вот так одна дикость дает другую дикость, а эта дикость дает третью дикость.
Бедную мать Хазарата сопроводили в ее село вместе с телом сына. Несчастного Адамыра тоже предали земле рядом с его братьями, и на этом кончился его род, заглох окончательно когда-то большой, хлебосольный дом. А потом и дом вместе с сараем постепенно растащили какие-то люди, скорее всего, эндурцы.
И вот с тех пор я много думал про Хазарата. Я думал: почему он в ту ночь не ушел со мной? И я понял, в чем дело. Он боялся, что если уйдет, то не сумеет отомстить. А меня обманул, что разучился ходить. Он ходить мог, но, зная, что Адамыр всегда вооруженный и собаки могут пойти по следу, не хотел рисковать.
Он хотел удлинить цепь и неожиданно прыгнуть на Адамыра и задушить его своими могучими руками, а больше он ни о чем не думал. Он не думал, что умрет с голоду, не думал, что сам освободиться не сможет, он только думал об одном – отомстить за свое унижение. И тогда я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно – отомстить, затоптать того, кто его топтал. Вот так, дорогие мои, раб хочет только отомстить, а некоторые глупые люди думают, что он хочет свободу, и через эту ошибку многое получалось, – закончил Дядя Сандро свою сентенцию и с далеко идущим намеком разгладил усы.
Кемал расхохотался, а князь многозначительно кивнул головой в мою сторону, дескать, учись мудрости у дяди Сандро.
– А то, что этих бедных князей Эмухвари обвинили как английских шпионов, – добавил дядя Сандро, – это просто глупость. Они даже не знали, что есть такая страна Англия. А я был в Англии в тридцатых годах вместе с ансамблем Панцулая. Нас возили по стране, и я заметил, что Англия неплохая страна. Прекрасные пастбища я там заметил, но овец почему-то не было. Но для коз Англия не годится. Коза любит заросли колючек, кустарники любит, а овца любит чистые пастбища. Не пойму, почему они овец не разводят.
– Разводят, – сказал я, чтобы успокоить дядю Сандро.
– А-а-а, – кивнул дядя Сандро удовлетворенно, – значит, послушались меня. Лет двадцать тому назад сюда приезжал английский писатель по имени Пристли. Ты слышал про такого?
– Да, – сказал я.
– Читал?
– Да, – сказал я.
– Ну как?
– Да так, дядя Сандро, – сказал я, – ничего особенного.
Дядя Сандро засмеялся не совсем приятным для меня смехом.
– Я уже заметил, – сказал дядя Сандро, – вот эти пишущие люди интересно устроены, никогда про другого ничего хорошего не скажут. А вот я, когда танцевал в ансамбле, всегда признавал, что Пата Патарая первый танцор, хотя на самом деле я уже лучше него танцевал… Но дело не в том. Этому Пристли тогда у нас прекрасную встречу устроили. Показали ему лучший санаторий, показали ему самого бодрого долгожителя, самый богатый колхоз и меня, конечно, с ним познакомили. Я был тамадой за столом. И он сидел рядом со мной, вернее, между нами сидела переводчица. И мы с ним разговорились. Я ему тогда сказал, что был в Англии и видел там хорошие пастбища, но овец не видел. И я ему подсказал, чтобы английские фермеры овец разводили.
– А он что? – спросил я.
– А он, – отвечал дядя Сандро, – сказал: хорошо, я им передам. Значит, выходит, передал. И еще он вот что сказал. Фермерам, говорит, я передам про овец. Но у нас в парламенте и так слишком много овец сидит. Значит, критикует свое правительство. Тогда я понял, почему его так хорошо у нас встречают. А теперь я у тебя спрашиваю: ты, находясь в чужой стране, хотя бы про обком можешь сказать, что там козы сидят? При этом учти, что козы умнее овец.
– Нет, – сказал я.
– Э-э-э, – сказал дядя Сандро.
Князь улыбнулся, а Кемал расхохотался. Хачик отскочил от стола и с колена запечатлел эту картину.
Мы выпили по рюмке. Акоп-ага принес свежий кофе, и, когда снял чашечки с подноса и приподнял его, поднос сверкнул на солнце, как щит. Акоп-ага присел за стол и, поставив поднос на колени, придерживал его руками и время от времени, постукивая по нему ногтем, прислушивался к тихому звону.
Кемал обычно посещал другие злачные места и поэтому плохо знал Акопа-ага. Мне захотелось, чтобы он послушал ставшую уже классической в местных кругах его новеллу о Тигранкерте.
– Акоп-ага, – сказал я, – я долго думал, почему Тигран Второй, построив великий город Тигранкерт, дал его сжечь и разграбить римским варварам? Неужели он его не мог защитить?
И пока я у него спрашивал, Акоп-ага горестно кивал головой, давая знать, что такой вопрос не может не возникнуть в любой мало-мальски здравой голове.
– О, Тигранкерт, – вздохнул Акоп-ага, – все пиль и пепель… Это бил самый красивый город Востокам. И там били фонтаны большие, как деревьям. И там били деревьям, на ветках которых сидела персидская птица под именем павлинка. И там по улицам ходили оленям, которые, видя мужчин, вот так опускали глаза, как настоящие армянские девушкам. А зачем? Все пиль и пепель.
Может, Тигранкерт бил лучи, чем Рим и Вавилон, но мы теперь не узнаем, потому что фотокарточкам тогда не было. Это случилось в шестьдесят девятом году до нашей эры, и, если б Хачик тогда жил, он бил би безработным или носильщиком… Фотографиям тогда вобче не знали, что такой.
Но разве дело в Хачике? Нет, дело в Тигране Втором. Когда этот римский гётферан Лукулл окружил Тигранкерт, Тигран взял почти все войска и ушел из города. Тигран-джан, зачем?!
Это бил великая ошибка великого царя. Тигранкерт имел крепкие стен, Тигранкерт имел прекрасная вода, такой соук-су, что стакан залпом никто не мог випить, и Тигранкерт имел запас продуктам на три года и три месяца! А зачем? Все пиль и пепель!
Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гётферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пиль и пепель.
А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стидно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщин и детей? Да? Нет! Вивиз свой гарем, своих пилядей, вот что вивиз! Это даже стидно для великого царя!
О Тигран, зачем ты построил Тигранкерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гётферанам?! Все пиль и пепель!
Пока он излагал нам историю гибели Тигранкерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акопа-ага.
– Сейчас проси! – сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранкерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями, застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.
– Два кофе можно? – спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.
– Можно, – сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки, – теперь все можно.
Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате. Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалом.
– Я думаю, – сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая на дядю Сандро своими темными глазами, – твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.
Помню, в конце войны наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили, и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина, и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.
И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивы, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратненького двухэтажного домика, потому что возле него росла рябина, вся в красных кистях.