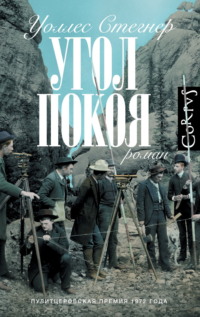Полная версия
Останется при мне
Протестующие возгласы Эда.
С тетей Эмили я под звуки кларнетов и струнных повел было светский разговор:
– Что есть такое в Моцарте, благодаря чему он звучит так радостно? Просто темп – или еще что-нибудь? Как он добивается, чтобы звук, всего-навсего звук, выражал радость?
– Тс-с-с-с-с! – произнесла Чарити, обращаясь и к Марвину Эрлиху, и ко мне, и, когда мы покорно предались пищеварению и услаждению слуха, она исцелила наши ушибленные чувства самой милосердной из улыбок.
Не знаю, что сейчас представляют собой кафедры английского: университетский мир я покинул давным-давно. Но я знаю, как они выглядели раньше. Выглядели первоклассно. Выглядели безмятежными ламаистскими монастырями высоко в горах, где избранные живут и комфортабельно, и возвышенно, и красиво. Мужи столь же ученые и благонравные, как чосеровский клерк из Оксфорда, пребывают там в окружении книг и идей, хорошо едят и пьют, мягко спят, пользуются трехмесячными летними каникулами, в течение которых им надо только культивировать свои интеллектуальные склонности и возделывать свои “поля”. Свободные от забот благодаря пожизненному найму, гарантированному окладу, скромным запросам, унаследованному достатку или всему этому вместе, они, как виделось, не были затронуты возней и борьбой за существование, которая шла снаружи, за стенами, и на тех нижних уровнях, где трудились и питали надежды мы, соискатели постоянных университетских должностей.
Мы знали, что этот взгляд верен лишь отчасти. Некоторые из тех, кто стоял выше нас, и правда были людьми умными, знающими и бескорыстными, людьми доброй воли, но иные представляли собой дутые величины, иные были и вовсе некомпетентны, иные, робкие душой, ценили кафедру как тихое местечко, иные делали карьеру, иные, подобно кое-кому из нас, на что-то горько обижались и кому-то завидовали, считая, что их несправедливо обошли. Но, так или иначе, они там были – на высотах, где светило солнце и куда не доходил дым, – твидовая элита со стильными заплатами на локтях, которую мы, может быть, и предполагали, войдя в нее, улучшить собой, но которую никогда не ставили под сомнение. Особенно в годы Депрессии, когда всякая лягушка в пруду мечтала отыскать свой плавучий лист.
Еще в начале нашего пребывания в Мадисоне профессор Руссело, восхищавший своих молодых подчиненных элегантным каменным домом, белоснежными носовыми платками, обыкновением отрезать от буженины или индейки бритвенно-тонкие кусочки, запоминающимися словечками и афоризмами, цитатами на все случаи и летними штудиями в библиотеке Британского музея, дал мне понять, как устроена жизнь. Мы разговаривали о таком же, как я, преподавателе низшего разряда, у которого была больна жена. “Бедный мистер Хаглер, – сказал профессор Руссело. – Он живет только на зарплату”.
Да, профессор Руссело, разумеется. Многим из нас это очень даже близко. Бедный мистер Морган – он тоже живет только на зарплату и к тому же родом из захолустья. Есть еще несколько таких же, как бедный мистер Хаглер и бедный мистер Морган. Бедный мистер Эрлих, к примеру. Он живет только на зарплату и родом из ненавистного ему Бруклина. Он очень старается – куда усердней, чем бедный мистер Морган, которому стоило бы, будучи варваром, чуть меньше задаваться. Бедный мистер Эрлих приложил усилия к тому, чтобы извлечь пользу из уроков, преподанных ему Тинком и Полом Элмером Мором. Он набивает свою данхилловскую трубку правильным табаком, он работает над своим “профилем”, он носит правильные брюки и пиджаки из фланели и твида, он может рекомендовать правильный херес с ореховым привкусом. И все же он выдает себя, точно русский агент, который ест джем ложкой.
Ни один из нас, возможно, в клуб привилегированных не попадет, но у бедного мистера Эрлиха даже меньше шансов, чем у бедного мистера Моргана, ибо у мистера Моргана, хоть он и задается чуть больше, чем следовало бы, нет внутренних препятствий к продвижению вверх, в то время как мистер Эрлих помешан на развенчании той самой демо-плутократии, которой ему хочется подражать. Он козыряет перед тобой своим йельско-принстонским послужным списком и вместе с тем агитирует тебя за вступление в Лигу молодых коммунистов. На взгляд мистера Моргана, он застрял, не в силах сделать выбор, посередине между Британским музеем и Красной площадью.
Я не потому остановился сейчас на Марвине Эрлихе, что он всерьез что-либо для меня значит или значил, а потому, что в тот вечер своей неспособностью осуществить на молодежном уровне то, к чему мы все стремились, он помог мне острее ощутить, что я введен в круг, радушно принят. Может быть, во всех нас таился некий рудимент антисемитизма – хотя нет, не думаю. По-моему, мы просто чувствовали, что Эрлихи не позволяют себе сполна влиться в компанию.
Марвин так и не преодолел обиду на Чарити, заставившую его умолкнуть. А когда она после музыки встала посреди комнаты, свистнула в полицейский свисток и велела нам приготовиться к кадрили, Эрлихи заявили, что не умеют, и отказались учиться. Дэйв Стоун, чтобы их увлечь, сыграл настоящую сельскую кадриль на пианино, Чарити убеждала их, что это очень легко, Сид будет давать команду только на самые простые движения. Мы образовали квадрат и стали ждать Эрлихов. Бесполезно. Поскольку Дэйв должен был сидеть за пианино, одного человека не хватало. Через некоторое время мы вернули на место ковер, и Сид раздал всем песенники.
Только что купленные, сказал мне мой ум. Десять штук. Я взглянул на цену на суперобложке. Семь пятьдесят. Семьдесят пять долларов за сборники песен всего на один вечер.
Петь Эрлихи тоже не стали. Сидели с открытым сборником и беззвучно шевелили губами. Может быть, не имели слуха, может быть, выросли на других песнях – не знаю. Но в их глазах стояли обида и упрек.
То, что мы пели, безусловно, не могло вызвать у них презрения. Никакого тебе “Дома на равнине” или чего-либо подобного, никаких пошлых баллад, ничего, что помнилось со времен бойскаутских костров. Нет-нет. Мы пели то, что одобрил бы сам Тинк: “Ein feste Burg” Мартина Лютера, “Jesu, Joy of Man’s Desiring” Баха, “Down by the Salley Gardens” Уильяма Батлера Йейтса. Компания подобралась цивилизованная. Все, кроме Эрлихов, могли подстроиться в лад. И надо же: Сид, оказалось, был тенором в хоровом клубе, Салли Морган унаследовала от матери настоящее насыщенное контральто, Ларри Морган имел опыт пения квартетом, а Дэйв Стоун великолепно играл на фортепиано. Мы закатывали глаза и выдавали долгие полнозвучные аккорды.
– Ну какие же вы молодцы! – воскликнула тетя Эмили и захлопала в ладоши. – Просто профессионалы!
Мы зааплодировали сами себе. На фортепианной табуретке Дэйв церемонно поклонился и ударил рукой об руку. Мы были донельзя довольны собой и новообретенной общностью. А невозможные Эрлихи сидели и сидели, улыбались и улыбались с открытым без всякой пользы сборником и сомкнутыми губами, ненавидя то, что вызывало их зависть.
В какой-то момент Чарити увидела их состояние и переглянулась через комнату с Сидом; тот встал и поинтересовался, не хотят ли гости промочить горло. Кое-кто из нас ответил утвердительно, и когда мы стояли с рюмками в руках, готовые к дальнейшему хоровому пению или чему-то другому, что было в планах у Чарити, Сид взял со стола томик стихов Хаусмана[21], открыл и произнес своим приятным, проворно льющимся голосом:
– Вот, послушайте, я хотел бы узнать ваше мнение. Послушайте.
– Тс-с-с-с-с! – сказала Чарити. – У Сида есть вопрос к вам, ценителям поэзии.
Мы умолкли. Сид встал у пианино, откашлялся, дождался полной тишины и серьезно, прочувствованно прочел стихотворение. Я еще не знал, что это одна из его ролей: пускать разговор по интеллектуальному руслу.
пасхальный гимн
Ты, что в саду сирийском спишь безгласно,Не ведая, что умер Ты напрасно,И в страшном сне увидеть бы не могТу ненависть, которую разжег,Своей кончиной сжечь ее желая.Так спи спокойно, зорь земных не зная!Но если, с гроба откатив плиту,Ты в горнюю вознесся высотуИ памятуешь в доле величавойСтрадания Свои, Свой пот кровавый,Свои многострадальные пути,Взгляни на нас, спаси и защити[22]!Мы ждали, одни стоя, другие сидя.
– В чем вопрос? – спросил Дэйв Стоун.
– Вас это стихотворение удовлетворяет? Это хороший Хаусман?
– Удовлетворяет в каком смысле? Да, это хороший Хаусман, конечно. Мне нравится. В Мадриде и Барселоне это следовало бы читать каждое утро.
– Ларри, а вас удовлетворяет?
– Несомненно. Я тоже так думаю обо всей этой разожженной ненависти. Но я не знал, что Хаусмана тянуло к христианству.
– Вот именно! – воскликнул Сид. – Именно! Не кажется ли это вам странным у него – эта мольба о спасении? Не ощущается его обычного стоицизма. Тот ли это Хаусман, который сказал: “Будь мужчиной, встань и кончи, коль душа в тебе больна”? Закрадывается сомнение – так ли он написал? Он этого не публиковал, стихотворение нашел его брат у него в бумагах. Знаете, что я думаю? Я думаю, Лоуренс Хаусман поменял местами строфы, отдал их в печать в противоположном порядке. Мне кажется, более по-хаусмановски было бы наоборот – закончить словами: “Так спи спокойно, зорь земных не зная”. Как вы считаете?
Как переключение это было очень даже неплохо. Мы все были изрядно под хмельком, и все были из тех, кому чтение стихов вслух – посиделки-читалки, так мы это называли, – не представляется чем-то странным или немужественным. Завязалось живое обсуждение. Ради обоснований мы обратились к другим томикам Хаусмана, а от них перешли к томикам других поэтов. Вскоре мы уже вовсю рылись на плотно набитых книжных полках, желая найти и прочесть что-то любимое. И тут-то, всего несколько минут спустя, Эрлихи получили от меня и Салли, но главным образом от Салли, окончательный удар.
Оглядывая полки в поисках того, что подтверждало бы некую мысль, я обнаружил “Одиссею” на греческом. Я пришел в изумление. Зачем Сиду, который наверняка не знает греческого, понадобился Гомер в подлиннике? Ради эффекта? Для того же, для чего Эрлиху понадобилась его трубка? Или для ощущения полноты, для того чтобы иметь под рукой всю мировую поэзию? Чтобы в доме имелось то, что должно иметься в приличном доме? Или это подарок от отца Чарити, профессора-классициста, забывшего по рассеянности, что этот язык им непонятен? Как бы то ни было, я удивился. Я думал, мы, скорее всего, единственная семья в Мадисоне, у которой на полках стоят Гомер, Анакреонт и Фукидид. У нас они стояли не потому, что я мог найти этим томам применение, а ради Салли.
Я снял книгу с полки, повернулся и сказал:
– Салли! Почитай нам из Гомера. Услади наш слух гекзаметром.
Общее оцепенение.
– Вы читаете по-гречески? – спросила Чарити. – Да, да, очень прошу! Тс-с-с-с, тишина. Салли будет читать Гомера.
Салли стала было противиться, но позволила себя уговорить. Полупьяный и гордый, я смотрел, как она подходит к пианино, встает и настраивается на чтение. Она обвела нас взглядом, улыбке придала серьезность. Когда ее припирают к стенке, она проявляет великое достоинство и присутствие духа, а читая этих древних поэтов, она способна заставить тебя прослезиться. Смысла слушатель не понимает, но от этого только лучше, и намного. Ее декламация идет из древности, и в голосе слышен звон бронзы.
Мы умолкли. Она начала читать.
Она не только заставила кое-кого прослезиться, она вызвала бурный восторг. Возгласы, аплодисменты, восхищение. Она – просто чудо! Видит бог, я ей завидовал. Но как только хлопки перешли в общую беседу, Эрлихи поднялись, чтобы уходить. “Ну что вы! – в один голос сказали Сид и Чарити. – Время детское. Побудьте еще”. Но я заметил: настал момент, когда они молча согласились долее Эрлихов не удерживать. Эрлихи пожали руку тете Эмили, которая по-прежнему сияла, сидя на диване, и, проходя мимо меня, Ванда наклонила ко мне свою дебелую фигуру и что-то произнесла – напряженно, яростно. Я был застигнут врасплох.
– Что? – переспросил я. – Извините, не расслышал.
– Мой муж тоже читает по-гречески! – сказала Ванда вполне громко и двинулась дальше – туда, где Сид держал ее пальто, а Чарити открывала дверь. Со светлыми улыбками радушных хозяев они прокричали вслед Эрлихам: “Спокойной ночи, доброго пути! Спасибо вам большое! Спокойной ночи!” Вернувшись к нам в гостиную, они нарочно сделали расстроенные, кислые лица.
В общем и целом – прекрасно. Поверх чувства вины я испытывал торжество. Нас по-прежнему окружали в этой комнате тепло, свет и доброта, а те, кто не нашел себе в ней места, кого одолевают зависть и злость, кто бунтует против Афины Паллады, – те отправились в холодную тьму. Я знал, каково им, и сочувствовал. Но я знал при этом, каково мне. Мне было хорошо до невозможности.
Через некоторое время гости начали расходиться, и угадайте, какая пара ушла последней. Ни Салли, ни я не были раньше знакомы с такими людьми, как Ланги, и мы оба впервые в жизни провели такой великолепный вечер. И когда мы все-таки собрались восвояси, Ланги не захотели с нами расставаться. Тетя Эмили уже поднялась к себе в спальню, Эбботы и Стоуны отправились по домам. Стоя с китайским халатом Салли в руках, Сид вдруг сказал:
– Погодите уезжать. Давайте прогуляемся, а? Но постойте, холодает, в этом вы замерзнете. Чарити, где наши бурнусы?
Она знала где и принесла; облачившись в эти длинные белые шерстяные одеяния с капюшонами, мы, все четверо, вышли в зябкую ночь. Если бы кто-нибудь посмотрел в окно, он мог бы принять нас за Фра Липпо Липпи и его дружков из поэмы Браунинга, пробирающихся к себе в монастырь после веселой ночки в городе.
Помню, какая стояла вокруг тишина, как пусты были улицы в это время, как громко раздавались наши шаги по мостовой, а потом приглушенно по траве, а потом с хрустом по опавшим листьям. Кое-где поблескивал иней. Наше дыхание, наши голоса поднимались вверх и смешивались с тенями под деревьями, со светом дуговых фонарей, с мерцанием звезд.
Это не было похоже ни на что из испытанного в Альбукерке и Беркли. Выглядело иначе, звучало иначе, пахло иначе, ощущалось иначе. И новейшей, лучшей частью всего этого были два наших спутника. Эта картина жива и сейчас в моей памяти, такая же контрастная, как картина людской ненависти у Хаусмана, но противоположная по смыслу. Мы не могли наговориться. Сообщали друг другу, что нам нравится, что уже сделали и что хотели бы сделать. Когда ненадолго умолкали, в свои права вступала морозная, приятно охлаждающая среднезападная ночь.
– Вам не кажется, что здесь открываются огромные возможности? – спросила нас Чарити. – Нет у вас такого же чувства, как у нас, – что здесь все страшно молодо и многообещающе, что столько всего здесь можно сделать, отдать, столькому научить и научиться? Мы с Сидом чувствуем себя такими везучими! Там, в Кеймбридже, некоторые нас жалели, как будто Висконсин – Сибирь какая-нибудь. Они просто не понимают. Не понимают, сколько тут тепла, дружелюбия, открытости, энтузиазма. И ума, таланта!
– Может быть, – продолжала она, – студенты не такие подготовленные, как в Гарварде, но многие не менее сообразительные. Если на Среднем Западе есть захолустные Уайнсбурги[23], то потому только, что они не получают шанса стать чем-то другим. От них ждут слишком многого слишком рано. Преподавателям терпения не хватает, они не дают того, что должны дать. Вместо этого убегают в Чикаго, или в Нью-Йорк, или в Париж. Или просто сидят дома, и ворчат, и брюзжат, и распространяются о духовном убожестве.
– Не знаю, как вы, но мы с Сидом считаем среднего размера город вроде этого, с хорошим университетом, подлинным воплощением американской мечты. Вы так не думаете? Может быть, чем-то подобным была Флоренция в начале пятнадцатого века, незадолго до этого взрыва, до расцвета искусств и наук, до всех открытий. Мы хотим тут хорошенько обосноваться и принести как можно больше пользы, помочь всему этому вырасти и вырасти самим. Мы твердо намерены дать самый что ни на есть максимум. Давайте не будем считать свою задачу выполненной, пока не превратим Мадисон в место паломничества!
В таком духе она продолжала квартал за кварталом, а Сид что-то бормотал, и поддакивал, и побуждал ее говорить, и слушал. Она произнесла много такого, о чем мы и сами, может быть, думали, на что надеялись, но что стеснялись выразить вслух. Ни разу в жизни мы не ощущали такой близости к двум людям. Чарити и Салли предстояло соревнование по вынашиванию ребенка, мы все находились в начале чего-то, будущее разворачивалось перед нами, как белая дорога под луной. Когда мы вернулись к их большому освещенному дому, он показался и нашим домом тоже. В первый же вечер он принял нас как родных.
Это чувствовали мы все. Ручаюсь в этом. Ибо перед их калиткой, прежде чем мы, так и не сняв бурнусов, уехали, мы, все четверо разом, со счастливым смехом обнялись – до того были рады, что из триллиона шансов во Вселенной нам выпал именно этот: оказаться в одно время в одном городе и в одном университете.
5
Мадисон. Он вспоминается фрагментарно, кусочками.
Мы сидим на ветхих садовых стульях у себя на запущенной лужайке. Я проверяю студенческие работы, хотя с похмелья болит голова. Салли по-прежнему старается одолеть “Людей доброй воли” Жюля Ромэна. Суббота, предполуденный час, ночью мы вернулись от Лангов в их романтических бурнусах, слишком возбужденные, чтобы спать. Разговаривали, занимались любовью, потом опять разговаривали, наконец уснули. Теперь – новый день.
Ясное небо, голубизна, на озере Монона белые треугольники парусов, легкие волны, которые отсвечивают слишком ярко для моих воспаленных глаз, чей взгляд добросовестно устремлен на сочинение первокурсницы, описывающей Холм обсерватории. Кое-что привлекает мое внимание, и я громко смеюсь. Салли поднимает глаза от книги.
– Послушай-ка: “Вершина холма округлая и гладкая, на ней сказались столетия эротизма”. Она что, так надо мной подшучивает, или это экспонат для коллекции ляпов Дэйва Стоуна?
– Я думаю, она хотела сказать: “эрозии”.
– Я тоже так думаю. Но чувственное томление читается между строк. Все равно что “гении Италии” написать без пробела. Когда непреднамеренно, смешней всего.
– Да, пожалуй.
Ветер шевелит крону серебристого клена у нас над головами, и некоторые листья с шелестом падают на траву. По озеру проплывает суденышко: стук дерева о дерево, плеск воды, хлопанье парусины. Вдруг из-за угла дома – голоса. Сид и Чарити, одетые для прогулки, бодрые, настойчивые. Зовут нас на пикник. Поскольку у нас нет телефона, они решили действовать наудачу: собрали кое-какую провизию и просто приехали. Вчера вообще-то была годовщина их свадьбы. Они думали закончить вечер шампанским, но Эрлихи слегка подпортили общее настроение, поэтому они не стали. Но все-таки им хочется отпраздновать, и хочется отпраздновать с нами. Они знают за городом один холм, с которого хороший вид, там весной они нашли цветы сон-травы, а сейчас там могут быть орехи гикори. Съестного ничего брать не надо – все уже уложено.
Энергичные, живые и благодаря своей вчерашней умеренности в питье не страдающие от похмелья, они своим прочищающим напором выталкивают нас из дренажной трубы обязанностей. Мы заносим книги и бумаги к себе в подвал, берем несколько яблок для пикника, чтобы уж не совсем с пустыми руками, и идем вокруг дома к их машине.
Там как раз почтальон. Он дает мне письмо, и я вижу обратный адрес. Мой взгляд прыгает навстречу взгляду Салли. Надежда, отскочив рикошетом, летит по Моррисон-стрит, точно шальная пуля. Когда я подсовываю палец под клапан конверта, Салли слегка хмурится: не сейчас, не распечатывай свою почту на людях. Сид уже открыл дверь “шевроле”.
Но я не в силах ждать. Никогда не был в силах. Я всю жизнь распечатываю почту на людях. И сейчас сдерживаться могу не больше, чем мог сдерживаться Ной, чтобы не выхватить из голубиного клюва зеленый лист. Уже начав двигаться к машине, чтобы сесть в нее, разрываю конверт, бросаю взгляд – и испускаю радостный вопль.
Салли понимает мгновенно, но Сид и Чарити смотрят с удивлением.
– Что там? Какая-то добрая весть?
Я даю Сиду письмо. Журнал “Атлантик мансли” хочет напечатать мой рассказ, который я написал за неделю перед началом занятий. Мне заплатят двести долларов.
Ланги пускаются с нами в пляс вокруг машины, и всю дорогу их сияющие лица то и дело поворачиваются к нам, сидящим сзади. Сид и Чарити задают множество вопросов, их распирает от удовольствия, они греют меня и Салли своей беспримесной, щедрой радостью за нас. Каждый из четверых открыт на полную.
Припарковываемся, пускаемся в путь по сельской дороге между оголенных кукурузных полей, над которыми каркают вороны; Салли и Чарити уходят немного вперед. У Сида за спиной большой рюкзак-корзина, который он не позволяет мне взять ни на минуту. Женщины, когда первоначальный порыв слегка ослабевает, бредут не спеша, часто останавливаются поглядеть на придорожные растения, и мы с Сидом сознательно замедляем шаг, чтобы их не нагнать.
Большей частью слышен высокий оживленный голос Чарити. Она полна энергии, задора, интереса ко всему. Кажется, вернулась к теме деторождения: уговаривает Салли не бояться, отдаться происходящему и получить от него максимум. Сама намеревается быть на этот раз все время в сознании. Никакого эфира, если не станет совсем уж невыносимо, а этого она не ожидает, третьи роды все-таки. Она разработала систему. Возьмет с собой в родильный зал маленький флажок и, если все-таки почувствует, что не может терпеть, даст этим флажком сигнал анестезиологу. Хорошо было бы зеркало там поставить, чтобы видеть роды.
Это моя теперешняя догадка, но не совсем уж необоснованная. У них часто такие разговоры. Что до меня, я иду под нежарким осенним солнцем, и письмо в кармане рубашки греет, будто живое. Двести долларов – это одна десятая моего годового оклада. Рассказ я написал за неделю. Если работать даже вчетверо менее продуктивно, можно удвоить мой здешний доход. Говорю себе, что так оно и будет. Решаю, что подарю Салли на Рождество небольшой проигрыватель и кое-какие пластинки, чтобы скрасить ее одинокие зимние дни в подвале и чтобы мы могли слушать музыку вместе, как Ланги.
Сид идет подле меня, корзину несет за плечами так, словно она весит не больше его рубашки. Вижу, что он серьезный, вдумчивый человек. Борцовская хватка его ума не молниеносно быстра, но он не отпустит идею, пока не положит ее на лопатки или она не покажет хлопками по ковру, что сдается. Письмо из “Атлантика” навело его на разговор о писателях и писательстве.
Он верит, что у каждого серьезного писателя есть призвание, которому присуще нечто мистическое. Автор не ум и не выучку пускает в ход, а чудный дар, который накладывает и свои обязательства. Сид верит, что я этим даром наделен. Удивляется, что я никогда не писал стихов: по его мнению, я поэт в душе, только нераскрывшийся, – и удивляет меня, цитируя на память фразы из единственного моего рассказа, который читал (и единственного опубликованного). По ним, считает он, видна конкретность и яркость моих образов, мое чувство места, богатство языка.
– Вы это умеете, – говорит он чуточку жалобно. – А другой будет годы учиться и так и не научится. По первому же абзацу вашего первого рассказа понятно, что вы уже умеете. А теперь и новый рассказ. За неделю. Боже мой, да у меня неделя уходит на то, чтобы карандаши наточить и задницу удобно устроить на стуле. Завидую вам. Вы музыкальный инструмент, который издает только чистые звуки. Никаких блюзовых нот. Вы нашли свой путь.
Приятно слышать, но меня смущает, что я слышу это от него. Я впитываю похвалу, но считаю своим долгом выразить скепсис в отношении дара. Я верю, что большинство людей в той или иной мере талантливы в какой-либо области – форм, красок, слов, звуков. Талант лежит в нас, как трут в ожидании огнива, но некоторым людям, не менее талантливым, чем другие, не везет. Судьба отказывает им в огниве. Либо эпоха не та, либо неважно со здоровьем, либо не хватает энергии, либо слишком много обязательств. Да мало ли что.
Талант, говорю я ему – и говорю с убеждением, – это только половина удачи. Никакой серафим не касается наших детских уст горящим углем, чтобы мы неизбежно начали “лепетать стихами” или “говорить языками”. Нам либо везет с родителями, педагогами, жизненным опытом, обстоятельствами, друзьями, эпохой, физическим и умственным капиталом, либо не везет. Мы родились в англоязычной среде, в Америке с ее богатством возможностей (я говорю это в 1937 году, после семи лет Депрессии, но говорю серьезно) и уже поэтому должны считать себя невероятно удачливыми. А что если бы мы родились бушменами в пустыне Калахари? Что если бы наши родители были голодными крестьянами в Уттар-Прадеш и мы, желая обратиться ко всему человечеству, вынуждены были довольствоваться пятьюстами калорий в день и из языков знали только урду? Что пользы от туза, если другие карты у тебя в руке – безнадежная шваль?